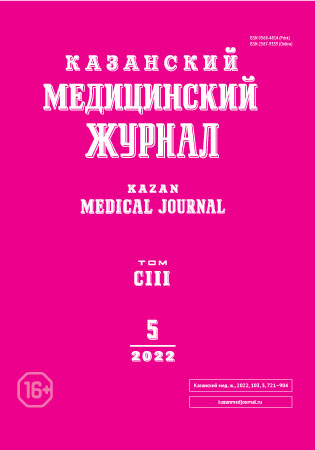From bioinformatic screening of genetic markers to low invasive lymph node metastases diagnosis in patients with cervical cancer
- Authors: Kutilin D.S.1, Kecheryukova M.M.1
-
Affiliations:
- National Medical Research Oncology Center
- Issue: Vol 103, No 5 (2022)
- Pages: 725-736
- Section: Theoretical and clinical medicine
- Submitted: 02.07.2021
- Accepted: 27.06.2022
- Published: 03.10.2022
- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/71635
- DOI: https://doi.org/10.17816/KMJ2022-725
- ID: 71635
Cite item
Full Text
Abstract
Background. The problem of lymph nodes metastases diagnosing in cervical cancer remains relevant and not fully resolved. The last decade studies results have shown the great potential of molecular markers in lymph nodes metastasis prediction, however, additional studies for their implementation in clinical practice are required.
Aim. Bioinformatic and laboratory screening of molecular markers of cervical tumors regional metastasis for its low invasive diagnosis.
Material and methods. The study was performed on 400 patients with cervical cancer and 40 donors without oncological pathology. To identify potential molecular markers of lymph node metastatic lesions, the Cancer Genome Atlas database was initially analyzed. The identified markers were validated by the Real-Time-polymerase chain reaction in tumor cell samples (extracted using laser microdissection) and extracellular deoxyribonucleic acid (DNA). The Mann–Whitney test was used to assess the differences; the Bonferroni correction was used to account for multiple comparisons.
Results. At the bioinformation stage, the change in the copy number of 5493 genes was analyzed, of which 79 genes were selected that most often change their copy number. During the data validation, it was found that primary tumor cells and tumor cells of metastases from the lymph nodes differ from normal cervix cells in the level of gene copies. The copy number of the CCND1 and PPARGC1A genes has the highest potential for regional lymph nodes metastases diagnosing in patients with cervical cancer; the PIK3CA, SPEN, ERBB3, APC, MUC4, CASP8, HLA-A, IGSF1 and TMTC1 loci have a lower potential. The EP300, TTN, DMD, DST, LAMP3, TORC2, TP53 and FOXO3 genes can be used to diagnose cervical cancer, whether metastatic or not. Additional validation of markers was carried out on extracellular DNA of blood plasma of cervical cancer patients and conditionally healthy donors. The presence of a differential copy number of PIK3CA, SPEN, ERBB3, APC, CCND1, HLA-A, TTN, MUC4, DST, PPARGC1A genes was found in two groups of patients with cervical cancer with and without metastatic lesions of the lymph nodes.
Conclusion. The study made it possible to form a list of potential molecular markers for low invasive diagnostics of cervical cancer in general (EP300, LAMP3, TORC2, FOXO3, TP53) and cervical cancer with metastatic lesions of regional lymph nodes (PIK3CA/DST, APC/PPARGC1A, ERBB3/HLA-A and LAMP3/MUC4).
Full Text
Актуальность
По состоянию на 2020 г. рак шейки матки (РШМ) остаётся наиболее частой злокачественной опухолью женской репродуктивной системы и ключевой причиной летальных исходов от онкогинекологической патологии во всём мире [1]. Возникновение метастазов РШМ обусловлено первичным лимфогенным и гематогенным распространением опухоли [2]. Примерно половина больных РШМ — кандидаты на хирургическое лечение в объёме радикальной гистерэктомии III типа (операция Вертгейма–Мейгса). В результате операции Вертгейма–Мейгса образуется большая раневая поверхность, а в забрюшинных пространствах малого таза скапливается раневой экссудат в значительных количествах, что приводит к ряду побочных явлений, угрожающих жизни больных [3, 4].
К сожалению, на сегодняшний день все неинвазивные диагностические методы (ультразвуковая томография малого таза, магнитно-резонансная и компьютерная томография с контрастным усилением) не дают 100% точности в оценке распространённости опухоли: специфичность современных методов для выявления лимфогенных метастазов составляет не более 80%. Основная проблема — диагностика микрометастазов в лимфатических узлах размерами до 10 мм [5].
Проблема своевременной диагностики и проведения оптимального хирургического лечения РШМ остаётся актуальной и до конца не решённой. Результаты исследований последнего десятилетия показали большой потенциал молекулярных маркёров в предикции метастазирования в лимфатические узлы [1]. Так, показана возможность использования показателя транскрипционной активности генов [1], но экспрессия генов служит не очень стабильным показателем и способна изменяться в организме пациентов в широком диапазоне под влиянием различных факторов. К тому же матричная рибонуклеиновая кислота (РНК) во внеклеточной среде быстро разрушается РНКазами [6], что ограничивает и усложняет построение подходов малоинвазивной диагностики на её основе. Соответственно, необходим переход на более устойчивый в биологических жидкостях организма молекулярный маркёр.
Одним из подобных маркёров может быть показатель копийности генов (CNV — от англ. copy number variation), не подверженный быстрой деградации в плазме крови, но плохо изученный при злокачественных опухолях шейки матки и пока не применяемый в клинической практике [1].
Цель
В свете этого целью исследования стал биоинформационный и лабораторный скрининг молекулярно-генетических маркёров регионарного метастазирования злокачественных опухолей шейки матки для разработки методов малоинвазивной диагностики забрюшинных метастатических лимфатических узлов.
Материал и методы исследования
Работа выполнена в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России за период с 2018 по 2021 г. В работе был использован биологический материал от 400 больных раком шейки матки и 40 доноров без онкологической патологии (условно здоровые доноры). В ретроспективную группу вошли 300 больных раком шейки матки (150 пациенток без метастазов и 150 женщин с метастатическим поражением лимфатических узлов), для исследования использовали биологический материал, заключённый в FFPE-блоки. В проспективную группу вошли 40 доноров без онкологической патологии и 100 больных раком шейки матки (50 больных без метастазов в регионарные лимфатические узлы и 50 пациенток с метастазами), у которых для исследования отбирали кровь путём венопункции. Каждая пациентка и условно здоровый донор подписали добровольное информированное согласие на участие в проведении исследования. На проведение исследования получено разрешение этического комитета ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России (протокол №12 от 10.10.2018).
Биоинформационный анализ баз данных. Для идентификации потенциальных молекулярно-генетических маркёров метастатического поражения лимфатических узлов первично проводили анализ базы данных TCGA (The Cancer Genome Atlas, https://portal.gdc.cancer.gov/). Для получения данных из Genomic Data Commons Data Portal (https://portal.gdc.cancer.gov/) использовали пакет TCGA Biolinks языка R в оболочке Rstudio. Для идентификации областей генома, размер которых значительно увеличивался или уменьшался в ряде образцов опухолей, применяли алгоритмы GISTIC версии 2.0.22, MutSig и RAE [7].
Лазерная микродиссекция с бесконтактным захватом. Материалом для исследования послужили срезы тканей, фиксированные в формалине и заключённые в парафин блоков, 300 пациенток. Срезы фиксировали на предметных стёклах, покрытых полиэтиленом. Для высококачественной дифференцировки опухолевых и нормальных клеток тканей шейки матки был выбран подход, основанный на лазерной микродиссекции с бесконтактным захватом (Palm MicroBeam, Carl Zeiss, Германия) [8].
Из клеток, извлечённых путём лазерной микродиссекции с бесконтактным захватом, фенол-хлороформным методом была проведена экстракция 900 образцов дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) (300 образцов из опухолевых и 300 образцов из нормальных клеток, а также 300 образцов из метастатических опухолевых клеток).
Для определения относительной копийности генов с использованием базы данных NCBI GenBank были разработаны последовательности синтетических олигонуклеотидов (праймеров, прямых и обратных) для 81 гена, включая референсные локусы (ACTB, GAPDH). Перечень генов был сформирован на основании предварительного биоинформационного анализа. При выборе референсного гена использовали алгоритм, применённый в работе J. Vandesompele и соавт. [9]: рассчитывали величину M (M-value) и S (Stability, показатель стабильности), равную ln(1/M). Гены со значением M менее 0,4 считали идеальными. В качестве референсных выбрали 2 локуса: GAPDH (M=0,003, S=2,868) и ACTB (M=0,105, S=1,942).
Определение показателя относительной копийности генов в клетках из FFPE-блоков. Количественную Real-Time-PCR амплификацию проводили с использованием термоциклера CFX96 (Bio-Rad, США). Амплификацию каждой из проб осуществляли в трёх технических повторах. Усреднённые данные по каждому гену нормировались по усреднённому показателю референсных генов для получения величины ΔCt [ΔCt=Ct (среднее исследуемого гена) – Ct (среднее геометрическое референсных генов)]. Копийность генетического локуса (rC) рассчитывали по формуле rC=Е–ΔCt, где Е — эффективность амплификации, рассчитанная по формуле E=10–1/k, где k — коэффициент из уравнения прямой C(T)=k•log P0+b, полученного путём линейной аппроксимации экспериментальных данных (Е=1,987). Далее вычисляли медиану rCоп1 (или для образцов из метастазов rCоп2) для образцов опухолевых клеток и медиану rCн для образцов нормальных клеток по каждому генетическому локусу и рассчитывали кратность изменения (FC — от англ. fold change) копийности генов в опухолевых образцах по отношению к нормальным:
FC=rCопухоль(1 или 2)/rCнорма=E–ΔCt(опухоль1–2)/E–ΔCt(норма) [8].
Выделение внеклеточной ДНК (внДНК). Для получения внДНК использовали кровь, взятую путём венопункции у 50 больных раком шейки матки без метастазов в регионарные лимфатические узлы и 50 больных раком шейки матки с метастазами в регионарные лимфатические узлы, а также у 40 доноров без онкологической патологии (группа условно здоровых доноров).
Плазму крови отделяли центрифугированием (30 мин, 2000 об./мин, t=10 °С). Из плазмы выделяли внДНК фенол-хлороформным методом в модификации Д.С. Кутилина и соавт. [10]: к 4 мл плазмы добавляли 4 мл лизирующего раствора, содержащего 2% додецилсульфата натрия, 1% меркаптоэтанол и протеиназу K, инкубировали 30 мин при 58 °С, после чего добавляли 4 мл смеси щелочной фенола с хлороформом (1:1) и центрифугировали 20 мин при 3000 об./мин (t=10 °С). Раствор разделялся на две фазы — фенол-хлороформную и водную фазу, содержащую ДНК. Водную фазу переносили в отдельную пробирку и добавляли равный объём изопропилового спирта (96%) и натрия хлорида (до концентрации в растворе 100 мМ). После 60-минутной инкубации при –20 °С проводили центрифугирование (12 000 об./мин, 15 мин, t=10 °С). Получившийся осадок промывали этиловым спиртом (80%). Этанол удаляли центрифугированием, высушивали осадок при 58 °С и растворяли в буфере, содержащем этилендиаминтетрауксусную кислоту [10].
Определение показателя относительной копийности генов во внДНК. Оценку показателя относительной копийности генов (перечень представлен в табл. 1) проводили методом количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени (RT-qPCR). Разработка последовательности синтетических олигонуклеотидов (праймеров) осуществлялась с помощью Primer-BLAST и базы данных GenBank (NCBI). В качестве референсного гена для нормализации полученных показателей был выбран GAPDH.
Таблица 1. Дифференциальная копийность генов в клетках первичной опухоли двух групп больных раком шейки матки
Изменяются только в первичной опухоли больных с метастазами | Изменяются в двух группах | Изменяются только в первичной опухоли больных без метастазов | |||
KMT2C | ↑ | EP300 | ↑ | PIK3CA | ↓ |
SPEN | ↑ | TTN | ↑ | ||
ERBB3 | ↑ | MUC4 | ↑ | ||
APC | ↑ | DMD | ↑ | ||
STK11 | ↓ | DST | ↑ | ||
CASP8 | ↓ | LAMP3 | ↑ | ||
HLA-A | ↓ | TORC2 | ↑ | ||
IGSF1 | ↓ | TP53 | ↓ | ||
TMTC1 | ↓ | FOXO3 | ↓ | ||
Реакцию амплификации проводили на термоциклере CFX96 (Bio-Rad, США) в 20 мкл смеси, содержащей матрицу внДНК (не менее 0,5 нг), 0,2 мМ раствор dNTP, 0,4 мкМ прямого и обратного праймеров, 2,5 мМ раствор MgCl2, 1X ПЦР-буфер с интеркалирующим красителем EvaGreen и 0,1 е.а./мкл SynTaq ДНК-полимеразы [10]. Амплификация осуществлялась по следующей программе: 95 °C 3 мин, 40 циклов, 95 °C 10 с, 55 °C 30 с (чтение оптического сигнала по каналу FAM) и 72 °C 20 с.
Относительную копийность (rC) рассчитывали по формуле, описанной Д.С. Кутилиным [11]:
rC=rCо/rCн=E–ΔCt(образцов от больных)/E–ΔCt(образцов от условно здоровых),
где Е — эффективность ПЦР-амплификации, рассчитанная по формуле E=10–1/k [k — коэффициент уравнения прямой C(T)=k•log P0+b, полученной в ходе линейной аппроксимации данных экспериментальных постановок ПЦР; усреднённое значение Е=1,914], а ΔCt — разница между средним геометрическим Ct(гена-мишени) и средним геометрическим Ct(референсного гена) [11].
Статистическую обработку результатов выполняли с помощью программы Statistica 10.0 (StatSoft, США). После проверки распределения признаков на соответствие закону нормального распределения по критерию Колмогорова–Смирнова для оценки различий значений применяли непараметрический U-критерий Манна–Уитни, для учёта множественного сравнения использовали поправку Бонферрони. Для проведения кластерного анализа использовали скрипты на языке R. Для получения диагностической панели генов применили математический подход, основанный на LASSO-пенализованной логистической регрессии, и оптимизацию при помощи bootstrap-данных. Для кластеризации генов по функции использовали алгоритм FMD (Functional module detection). Алгоритм основан на методе k-ближайших соседей (KNN — от англ. k-nearest neighbors algorithm) и алгоритме поиска сообщества Лувена для кластеризации тесно связанных генов в отдельные функциональные модули, которые тестируются на функциональное обогащение [12].
Результаты и обсуждение
Анализ данных проекта The Cancer Genome Atlas (TCGA). Для биоинформационного подбора перечня потенциальных молекулярно-генетических маркёров опухолей шейки матки мы обратились к данным проекта TCGA, доступным на портале Genomic Data Commons. Эта база данных содержит информацию о полиморфизмах, экспрессии микроРНК, метилировании ДНК, транскриптоме и копийности генов в образцах тканей (опухоль, здоровая ткань, клетки крови, опухолевые метастазы) более 14 531 больного 38 видами онкологических заболеваний, в том числе 608 пациенток с диагнозом «плоскоклеточный РШМ». В анализ были включены 295 пациенток, для которых были доступны данные по копийности генов в образцах опухоли, прилежащей здоровой ткани и метастазов.
Алгоритм GISTIC идентифицирует области генома, размер которых значительно изменяется при малигнизации тканей. При анализе 295 образцов опухолей было обнаружено 25 значимых результатов на уровне фрагментов хромосом, 26 значимых очаговых амплификаций и 37 значимых очаговых делеций (рис. 1).
Рис. 1. Геномное положение амплифицированных (А) и делетированных (Б) областей
Таким образом, в выборке из 295 пациенток было проанализировано изменение копийности 5493 генов. Из них было выбрано 79 генов, наиболее часто изменяющих свою копийность (от 6,5 до 26,2% рассмотренных случаев): PIK3CA, KMT2C, KMT2D, EP300, SPEN, FBXW7, NSD1, FAT1, NOTCH1, PTEN, NFE2L2, STK11, RB1, CREBBP, TP53, CASP8, ARID1A, NF1, HLA-A, PTPN13, CDK12, FAT4, TRRAP, CIC, CHD4, AFF3,ATRX, UBR5, CNTRL, ZFHX3, SETD2, BCOR, MED12, BRCA1, ERBB3, TET1, RANBP2, ATR, KDM5A, TSC2, APC, PML, RNF213, BRIP1, BAP1, AR, ZNF521, CUX1, PTPRK, GRIN2A, TTN, MUC4, MUC16, DNM1P47, SYNE1, DMD, DST, GCH1, RTEL1, IGSF1, ADPRM, PCCB, AGPAT5, ATP8A1, TMTC1, KIAA1429, SDK1, LAMP3, PRKAA1, TORC2, FOXO3, HDAC5, MEF2C, MLXIPL, HNF4A, SREBF1, SREBF2, PPARGC1A и CCND1.
Особенности копийности генов в клетках первичной опухоли у больных РШМ. У 150 больных РШМ ретроспективной группы не было обнаружено поражения регионарных лимфатических узлов. Анализ показателя относительной копийности (относительно нормальных клеток) 79 генетических локусов в опухолевых клетках 150 больных РШМ без поражения регионарных лимфатических узлов показал высокую молекулярную гетерогенность данного типа опухолей. Так, 150 пациенток отчётливо кластеризовались по 4 группам-кластерам (в зависимости от копийности 79 генов). Сами гены по особенностям их копийности также были разделены на 3 крупных кластера.
Тем не менее, несмотря на значительную молекулярную гетерогенность плоскоклеточного РШМ без поражения регионарных лимфатических узлов, при дальнейшем анализе проявляется его специфический молекулярный профиль. Этот профиль характеризуется пиками и спадами, соответствующими увеличению или снижению копийности соответствующих генов (рис. 2). Так, на рис. 2 отчётливо видно несколько участков, характеризующихся значительным изменением копийности генов в опухолевых клетках относительно нормальных.
Рис. 2. Молекулярный профиль опухолевых клеток шейки матки у пациенток без поражения лимфатических узлов
С использованием критерия Манна–Уитни (с поправкой Бонферрони) было проведено сравнение нормальных и опухолевых клеток по показателю копийности 79 генов у 150 пациенток с РШМ без метастатического поражения лимфатических узлов. Анализ показал статистически значимое увеличение копийности генов EP300, TTN, MUC4, DMD, DST, LAMP3 и TORC2 в 2,3 раза (p=0,004), 2,6 раза (p=0,005), 1,9 раза (p=0,001), 1,9 раза (p=0,022), 1,9 раза (p=0,003), 2,5 раза (p=0,004) и 1,9 раза (p=0,041) соответственно, а также статистически значимое снижение копийности генов PIK3CA, TP53 и FOXO3 в 1,8 раза (p=0,005), 2,7 раза (p=0,002) и 2,2 раза (p=0.014) соответственно в опухолевых клетках шейки матки относительно нормальных клеток (рис. 3, А).
Рис. 3. А. Относительная копийность генов в опухолевых клетках шейки матки у больных без метастатического поражения лимфатических узлов (n=150); *статистически значимые отличия относительно нормальных клеток (p <0,05). Б. Относительная копийность генов в опухолевых клетках шейки матки у больных с метастатическим поражением регионарных лимфатических узлов (n=150); *статистически значимые отличия относительно нормальных клеток (p <0,05)
У других 150 пациенток ретроспективной группы больных РШМ было зафиксировано метастатическое поражение регионарных лимфатических узлов. Анализ показателя относительной копийности (относительно нормальных клеток) 79 генетических локусов в опухолевых клетках этих больных РШМ также показал высокую молекулярную гетерогенность данного типа опухолей. С использованием критерия Манна–Уитни (с поправкой Бонферрони) было проведено сравнение нормальных и опухолевых клеток по показателю копийности 79 генов.
В ходе проведённого исследования обнаружено статистически значимое (p <0,05) увеличение копийности генов KMT2C, EP300, SPEN, ERBB3, APC, TTN, MUC4, DMD, DST, LAMP3, TORC2 и снижение копийности генов STK11, TP53, CASP8, HLA-A, IGSF1, TMTC1 и FOXO3 в клетках первичной опухоли относительно нормальных клеток шейки матки. Следует отметить, что эффект одновременного изменения копийности генов LAMP3, TORC2, ERBB3, APC, HLA-A, TP53 и FOXO3 отмечен у 60% выборки, а изменение копийности генов APC, LAMP3 и TP53 — у 80% выборки (рис. 3, Б).
Если рассматривать изменение копийности генов как показатель нестабильности генома, то можно сказать, что в клетках первичной опухоли у больных РШМ с метастатическим поражением регионарных лимфатических узлов нестабильность генома выражена значительно сильнее, чем в клетках первичной опухоли у больных РШМ без метастатического поражения регионарных лимфатических узлов. Так, если в случае опухолевых клеток больных РШМ без поражения регионарных лимфатических узлов изменяется копийность только 10 генетических локусов, то в случае опухолевых клеток больных РШМ с метастатическим поражением регионарных лимфатических узлов изменяется копийность уже 18 генетических локусов.
Дифференциальные особенности копийности исследованных генов в двух группах пациенток представлены в табл. 1.
При сравнении двух групп пациенток по показателю копийности 25 генов обнаружены следующие статистически значимые различия: копийность гена PIK3CA была в 1,9 раза (p=0,037) выше, SPEN — в 2,3 раза (p=0,005) выше, ERBB3 — в 2,7 раза (p=0,002) выше, APC — в 3,0 раза (p=0,004) выше, MUC4 — в 1,6 раза (p=0,011) выше; гена CASP8 — в 1,6 раза (p=0,043) ниже, HLA-A — в 1,8 раза (p=0,020) ниже, IGSF1 — в 1,5 раза (p=0,047) ниже, TMTC1 — в 2,2 раза (p=0,005) ниже у больных РШМ с метастатическим поражением регионарных лимфатических узлов относительно больных РШМ без метастазов. Обнаруженные различия могут лечь в основу дифференциальной диагностики вероятности метастатического поражения регионарных лимфатических узлов при РШМ.
Использование алгоритма FMD (от англ. Functional module detection) позволило объединить перечень исследуемых генов в один функциональный модуль, связанный с регуляцией следующих ключевых сигнальных путей (выявлены по базам данных): клеточный ответ на ультрафиолетовое излучение, клеточный ответ на световые стимулы, регуляция остановки клеточного цикла.
Особенности копийности генов в клетках опухолевых метастазов в лимфатических узлах у больных РШМ. В клетках опухолевых метастазов из лимфатических узлов обнаружено статистически значимое (p <0,05) увеличение копийности генов EP300, SPEN, ERBB3, APC, TTN, MUC4, DMD, LAMP3, TORC2 и CCND1, а также снижение копийности генов TP53, CASP8, HLA-A, IGSF1, TMTC1, FOXO3 и PPARGC1A относительно нормальных клеток шейки матки. Следует отметить, что эффект одновременного изменения копийности генов LAMP3, TORC2, ERBB3, APC, HLA-A, TP53 и FOXO3 отмечен у 60% выборки, а изменение копийности генов APC, LAMP3 и TP53 — у 80% выборки (рис. 4, А). Соответственно в клетках опухолевых метастазов у больных РШМ нестабильность генома выражена столь же значительно, как и в клетках первичной опухоли этих больных. При этом в процесс опухолевой трансформации включаются несколько другие гены: если в случае клеток первичной опухоли больных РШМ изменяется копийность 18 генетических локусов, то в случае опухолевых метастатических клеток больных РШМ изменения затрагивают 17 генетических локусов.
Рис. 4. А. Относительная копийность генов в метастатических опухолевых клетках шейки матки (n=150); *статистически значимые отличия относительно нормальных клеток (p <0,05). Б. Визуализация кластеризации генов по выполняемой функции или участию в сигнальных путях
Схожесть молекулярного профиля первичной и метастатической опухолей в данном случае можно попытаться объяснить общностью происхождения этих клеток, а различия по копийности ряда генов — клональной эволюцией этих клеток, обеспечившей их выживание в области метастатических ниш [13].
Так, клетки первичной опухоли и метастазов различались по копийности генов CCND1 [в 3,5 раза (р=0,004) выше в клетках метастазов] и PPARGC1A [в 2,8 раза (р=0,041) выше в клетках метастазов]. Статистически значимых различий в копийности других генов между клетками первичной опухоли и клетками опухолевых метастазов из лимфатических узлов не обнаружено.
Использование алгоритма FMD позволило разделить перечень исследуемых генов на 3 функциональных модуля (кластеры М1–3), связанных с регуляцией следующих ключевых сигнальных путей (выявлены по базам данных): клеточный ответ на уровни питательных веществ, клеточный ответ на внешний раздражитель, регуляция изменения конформации ДНК, гомеостаз анатомической структуры, регулирование стабильности белка и др. (рис. 4, Б).
Таким образом, клетки первичной опухоли и опухолевые клетки метастазов из лимфатических узлов отличаются по уровню копийности генов от нормальных клеток шейки матки. Соответственно показатель копийности генов CCND1 и PPARGC1A имеет наивысший потенциал для диагностики метастазов в регионарные лимфатические узлы у больных РШМ. Также, несомненно, потенциалом в этом плане обладают генетические локусы PIK3CA, SPEN, ERBB3, APC, MUC4, CASP8, HLA-A, IGSF1 и TMTC1, в то время как генетические локусы EP300, TTN, DMD, DST, LAMP3, TORC2, TP53 и FOXO3 можно использовать для диагностики РШМ независимо от его формы — метастатической или нет.
Уровень копийности генетических локусов во внеклеточной ДНК больных РШМ. Для разработки эффективных малоинвазивных методов диагностики РШМ необходим скрининг молекулярных маркёров во внДНК плазмы крови. В качестве таких маркёров большим потенциалом обладает показатель CNV — полиморфизм, приводящий к изменению копийности определённого генетического локуса и, как следствие, изменению экспрессии этого гена и его продукта — белка или некодирующей РНК. Данный показатель обладает достаточной стабильностью во внеклеточных средах организма человека, в том числе в плазме крови [14].
В целом внДНК плазмы крови может происходить из ядерной и митохондриальной ДНК соматических или опухолевых клеток, подвергшихся апоптозу; из ДНК клеток крови, вирусной и бактериальной ДНК [10].
Проведённый анализ позволил выделить ряд генов, показатель CNV которых имеет потенциал для малоинвазивной диагностики РШМ. На внДНК, выделенной из плазмы крови 50 больных РШМ с метастатическим поражением регионарных лимфатических узлов и 50 больных РШМ без метастатического поражения регионарных лимфатических узлов, а также 40 условно здоровых доноров, проведена валидация 26 выявленных потенциальных молекулярно-генетических маркёров.
Кластерный анализ данных по относительной копийности 26 генетических локусов во внДНК 100 пациенток с РШМ позволил разделить выборку на 2 основных кластера: первый — группа больных РШМ с метастатическим поражением лимфатических узлов (n=50), второй — группа больных РШМ без метастатического поражения лимфатических
узлов (n=50).
В ходе проведённого исследования у больных РШМ без метастатического поражения лимфатических узлов во внДНК обнаружено статистически значимое (р <0,05) увеличение копийности генов EP300, TTN, MUC4, LAMP3, TORC2 относительно копийности этих генов во внДНК плазмы крови условно здоровых доноров (рис. 5). Также у больных РШМ без метастатического поражения лимфатических узлов во внДНК обнаружено статистически значимое (р <0,05) снижение копийности генов PIK3CA, TP53, FOXO3 относительно копийности этих генов во внДНК плазмы крови условно здоровых доноров (см. рис. 5).
Рис. 5. Показатель относительной копийности генов во внеклеточной ДНК плазмы крови больных раком шейки матки с метастатическим поражением регионарных лимфатических узлов и без него; *статистически значимые отличия от условно здоровых доноров (р <0,05), **статистически значимые различия между двумя группами больных раком шейки матки (р <0,05)
У больных РШМ с метастатическим поражением лимфатических узлов во внДНК обнаружено статистически значимое (р <0,05) увеличение копийности генов EP300, SPEN, ERBB3, APC, LAMP3, TORC2 и CCND1 относительно копийности этих генов во внДНК плазмы крови условно здоровых доноров.
Также у больных РШМ с метастатическим поражением лимфатических узлов во внДНК обнаружено статистически значимое (р <0,05) снижение копийности генов TP53, CASP8, HLA-A, FOXO3 и PPARGC1A относительно копийности этих генов во внДНК плазмы крови условно здоровых доноров (см. рис. 5).
Сравнение показателей копийности 26 генов во внДНК двух групп больных РШМ также позволило выявить ряд статистически значимых межгрупповых различий. Так, во внДНК больных РШМ с метастазами в регионарных лимфатических узлах обнаружено статистически значимое увеличение копийности генов PIK3CA, EP300, SPEN, ERBB3, APC, LAMP и CCND1 относительно копийности этих генов во внДНК больных РШМ без метастазов в регионарных лимфатических узлах.
Кроме того, во внДНК больных РШМ с метастазами в регионарных лимфатических узлах обнаружено статистически значимое снижение копийности генов HLA-A, TTN, MUC4, DST и PPARGC1A относительно копийности этих генов во внДНК больных РШМ без метастазов в регионарных лимфатических узлах (см. рис. 5). Для получения надёжной диагностической панели генов применили математический подход, основанный на LASSO-пенализованной логистической регрессии и оптимизированный при помощи множественных перевыборочных (bootstrap) наборов данных. Регрессионные модели формировали из 20 пар генов с наиболее высоким значением AUC. Выбранные модели позволили правильно классифицировать образцы с точностью среднего значению AUC=0,93 (95% доверительный интервал 0,9305–0,9320). На основании bootstrap-моделей получена финальная панель генов: PIK3CA/DST, APC/PPARGC1A, ERBB3/HLA-A и LAMP3/MUC4. Такое сочетание генов обеспечивает диагностическую чувствительность на уровне 95% и специфичность на уровне 90% (AUC=0,98) при разделении пациенток с метастатическим поражением регионарных лимфатических узлов и без него.
Для некоторых генетических локусов, выявленных в качестве маркёрных в ходе данного исследования, хорошо описана биологическая функция и известна ассоциация с рядом других злокачественных опухолей.
Так, ген LAMP3 кодирует гликопротеин лизосомальной мембраны и в норме экспрессируется в лимфоидных органах и дендритных клетках. Повышенная экспрессия данного гена отмечена в клетках опухолей пищевода, кишечника, желудка, молочной железы и ряда других тканей [15].
Для гена TORC2 хорошо известна роль регулятора онкогенеза при различных видах рака [16]. TORC2 — коактиватор транскрипционного фактора CREB и центральный регулятор экспрессии глюконеогенных генов в ответ на циклический аденозинмонофосфат [17].
Кодируемый геном TP53 транскрипционный фактор регулирует клеточный цикл, выполняет функцию супрессора образования злокачественных опухолей. Мутации в гене TP53 обнаруживают в клетках почти половины известных нозологий злокачественных опухолей [18].
Ген FOXO3 также является триггером апоптоза за счёт активации генов, необходимых для гибели клеток, таких как Bim и PUMA, или подавления антиапоптотических белков, таких как FLIP [19].
Ген PPARGC1A — основной регулятор глюконеогенеза в печени, вызывающий повышенную экспрессию генов, участвующих в энергетическом метаболизме [20]. Это ген также служит главным регулятором митохондриального биогенеза. Кодируемый им белок влияет на поляризацию макрофагов посредством STAT6/PPAR и ингибирование образования провоспалительных цитокинов [21].
Однако для этих генетических локусов впервые определён потенциал для малоинвазивной диагностики РШМ дифференциально с метастатическим поражением регионарных лимфатических узлов и без него.
Вывод
Проведённое исследование позволило сформировать перечень потенциальных молекулярных маркёров для малоинвазивной диагностики как рака шейки матки в целом (EP300, LAMP3, TORC2, FOXO3, TP53), так и рака шейки матки с метастатическим поражением регионарных лимфатических узлов в частности (PIK3CA/DST, APC/PPARGC1A, ERBB3/HLA-A и LAMP3/MUC4).
Участие авторов. Д.С.К. — разработка дизайна исследования, подготовка текста публикации, анализ данных; М.М.К. — сбор и первичная обработка биологического материала, проведение молекулярно-генетического исследования.
Источник финансирования. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов по представленной статье.
About the authors
Denis S. Kutilin
National Medical Research Oncology Center
Author for correspondence.
Email: k.denees@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-8942-3733
SPIN-code: 8382-4460
Scopus Author ID: 55328886800
Cand. Sci. (Biol.), Leading Researcher
Russian Federation, Rostov-on-Don, RussiaMadina M. Kecheryukova
National Medical Research Oncology Center
Email: adele09161@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7800-7198
SPIN-code: 8756-7134
Russian Federation, Rostov-on-Don, Russia
References
- Kecheryukova MM, Snezhko AV, Verenikina EV, Menshenina AP, Adamyan ML, Ardzha AYu, Kecheryukova TM. Complex molecular characterization of cervical cancer: metastatic markers. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2020;(2):172. (In Russ.) doi: 10.17513/spno.29769.
- Maksimov SYa, Guseynov KD. Combined treatment of cervical cancer. Prakticheskaya onkologiya. 2002;3(3):200–210. (In Russ.)
- Digay LK, Shanazarov NA, Vaskovskaya OV, Asabaeva RI. Clinical-economic analysis of diagnosis and treatment of patients with cervical cancer. Medical science and education of Ural. 2012;13(4):15–17. (In Russ.)
- Kenter GG, Heintz AP. Surgical treatment of low stage cervical carcinoma: back to the old days? Int J Gynecol Cancer. 2002;12(5):429–434. doi: 10.1136/ijgc-00009577-200209000-00003.
- Trukhacheva NG, Frolova IG, Kolomiets LA, Usova AV, Grigoryev EG, Velichko SA, Chernyshova AL, Churuksaeva ON. Assessment of the extent of cervical cancer spread using magnetic resonance imaging. Siberian journal of oncology. 2015;(2):64–70. (In Russ.)
- Kutilin DS, Gusareva MA, Kosheleva NG, Pavlyatenko IV, Savchenko DA, Gabrichidze PN, Gvaramiya AK, Shlyakhova OV, Babenkov OY. Genetic and epigenetic predictors of rectal tumors radiotherapy effectiveness. Modern problems of science and education. 2021;(4):58. (In Russ.) doi: 10.17513/spno.30963.
- Gao J, Aksoy BA, Dogrusoz U, Dresdner G, Gross B, Sumer SO, Sun Y, Jacobsen A, Sinha R, Larsson E, Cerami E, Sander C, Schultz N. Integrative analysis of complex cancer genomics and clinical profiles using the cBioPortal. Sci Signal. 2013;6(269):11. doi: 10.1126/scisignal.2004088.
- Kolesnikov EN, Maksimov AYu, Kit OI, Kutilin DS. Dependence of overall and relapse-free patients survival from molecular genetic subtype of esophageal squamous cell cancer. Voprosy onkologii. 2019;65(5):691–700. (In Russ.)
- Vandesompele J, De Preter K, Pattyn F, Poppe B, Van Roy N, De Paepe A, Speleman F. Accurate normalization of real-time quantitative RT-PCR data by geometric averaging of multiple internal control genes. Genome Biol. 2002;3(7):research0034.1. doi: 10.1186/gb-2002-3-7-research0034.
- Kutilin DS, Ayrapetova TG, Anistratov PA, Pyltsin SP, Leyman IA, Chubaryan AV, Turkin IN, Vodolazhsky DI, Nikolaeva NV, Lysenko IB. Relative copy number variation of genetic loci in the cell-free DNA in patients with lung adenocarcinoma. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Severo-Kavkazskiy region. Seriya: Estestvennye nauki. 2017;(3-2):74–82. (In Russ.)
- Kutilin DS. Regulation of gene expression of cancer/testis antigens in colorectal cancer patients. Molecular biology. 2020;54(4):520–534. doi: 10.1134/S0026893320040093.
- Dimitriadi TA, Burtsev DV, Dzhenkova EA, Kutilin DS. Differential expression of microRNAs and their target genes in cervical intraepithelial neoplasias of varying severity. Advances in molecular oncology. 2020;7(2):47–61. (In Russ.) doi: 10.17650/2313-805X-2020-7-2-47-61.
- Gisselsson D, Egnell R. Cancer — An insurgency of clones. Trends Cancer. 2017;3(2):73–75. doi: 10.1016/j.trecan.2016.11.010.
- Kutilin DS, Airapetova TG, Anistratov PA, Pyltsin SP, Leiman IA, Karnaukhov NS, Kit OI. Copy number variation in tumor cells and extracellular DNA in patients with lung adenocarcinoma. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2019;167(6):771–778. doi: 10.1007/s10517-019-04620-y.
- Tanaka T, Warner BM, Odani T, Ji Y, Mo YQ, Nakamura H, Jang SI, Yin H, Michael DG, Hirata N, Suizu F, Ishigaki S, Oliveira FR, Motta ACF, Ribeiro-Silva A, Rocha EM, Atsumi T, Noguchi M, Chiorini JA. LAMP3 induces apoptosis and autoantigen release in Sjögren's syndrome patients. Sci Rep. 2020;10(1):15169. doi: 10.1038/s41598-020-71669-5.
- Rodón L, Svensson RU, Wiater E, Chun MG, Tsai WW, Eichner LJ, Shaw RJ, Montminy M. The CREB coactivator CRTC2 promotes oncogenesis in LKB1-mutant non-small cell lung cancer. Sci Adv. 2019;5(7):eaaw6455. doi: 10.1126/sciadv.aaw6455.
- Cheng A, Saltiel AR. More TORC for the gluconeogenic engine. BioEssays. 2006;28(3):231–234. doi: 10.1002/bies.20375.
- Teng Z, Chen W, Yang D, Zhang Z, Zhu L, Wu F. Expression of p53 in ground-glass nodule of lung cancer and non-lung cancer patients. Oncol Lett. 2019;17(2):1559–1564. doi: 10.3892/ol.2018.9797.
- Ekoff M, Kaufmann T, Engström M, Motoyama N, Villunger A, Jönsson JI, Strasser A, Nilsson G. The BH3-only protein Puma plays an essential role in cytokine deprivation induced apoptosis of mast cells. Blood. 2007;110(9):3209–3217. doi: 10.1182/blood-2007-02-073957.
- Klein MA, Denu JM. Biological and catalytic functions of sirtuin 6 as targets for small-molecule modulators. J Biol Chem. 2020;295(32):11021–11041. doi: 10.1074/jbc.REV120.011438.
- Zago G, Saavedra PHV, Keshari KR, Perry JSA. Immunometabolism of tissue-resident macrophages — An appraisal of the current knowledge and cutting-edge methods and technologies. Front Immunol. 2021;12:665782. doi: 10.3389/fimmu.2021.665782.
Supplementary files