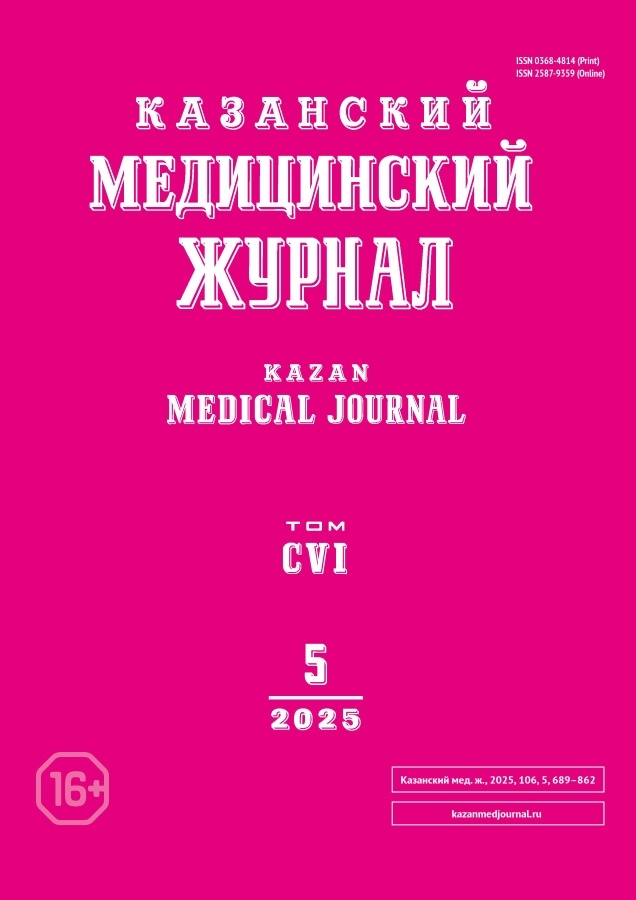An overview of the microelectromechanical systems employed in cardiology practice: operating principles, diagnostic potential, and future applications
- Authors: Talovskaia A.A.1, Barbin E.S.1, Troshkinev N.M.1,2
-
Affiliations:
- Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
- Tomsk National Research Medical Center
- Issue: Vol 106, No 5 (2025)
- Pages: 796-809
- Section: Reviews
- Submitted: 03.12.2024
- Accepted: 20.05.2025
- Published: 25.09.2025
- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/642503
- DOI: https://doi.org/10.17816/KMJ642503
- EDN: https://elibrary.ru/KGKLLM
- ID: 642503
Cite item
Abstract
Cardiovascular diseases remain the leading cause of worldwide mortality. Recent advancements in microelectronics have created novel opportunities for the development of innovative, intelligent devices that can perform unique electromechanical functions. Microelectromechanical systems are microscopic devices measuring between 20 and 1000 µm and integrated with microelectronics. They are used in the diagnosis and treatment of diseases, monitoring body functions, and in bioprosthetics. They possess the potential to improve the diagnosis, treatment, and prevention of life-threatening conditions. The advent of mobile technologies has led to the development of novel approaches that can enhance the efficiency of healthcare systems. Medical telemetry systems enable the remote measurement of physiological parameters via wireless technology. Implantable medical devices offer a wide range of diagnostic and therapeutic applications. This article provides an overview of current research focusing on implantable microelectromechanical systems with remote signal transmission in cardiology practice, describes in detail their practical operating principles and information transmission mechanisms, and reports the findings of their application in clinical trials. A comprehensive review of relevant publications suggests that this branch of medicine can be widely employed in clinical practice, enabling the personalized monitoring of patients and the prevention of life-threatening complications.
Full Text
Введение
С 70-х годов прошлого века в большинстве развитых стран мира болезни сердца и сосудов стали причиной до 30% летальных исходов [1]. В США, Канаде и значительной части европейских государств этот показатель был ещё выше и достигал 40% и более от общего уровня смертности [2]. В России с середины 1970-х годов и вплоть до 2014 года доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний превышала 50% от общего числа летальных исходов [3].
С начала века наблюдалась тенденция к снижению смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы [4]. Это стало возможным благодаря совершенствованию профилактики острого коронарного синдрома, повышению качества экстренной медицинской помощи увеличению количества хирургических и рентгенэндоваскулярных вмешательств, что существенно уменьшило летальность [4, 5]. Несмотря на предпринятые меры, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2015 года вновь отмечается тенденция к увеличению смертности. В 2015 году количество смертей от патологии сердечно-сосудистой системы составило 17,7 млн, а в 2023 году — уже 20,5 млн человек [6]. С ростом количества пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается и нагрузка на систему здравоохранения, что влечёт за собой дополнительные затраты [7]. В России в 2018 году был инициирован проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение». Согласно данным Минздрава, в результате реализации проекта за период с 2018 по 2022 год удалось снизить смертность более чем на 10%, но уровень остаётся высоким [8]. В связи с этим особое внимание уделяется научным исследованиям, направленным на усовершенствование мониторирования, профилактики и лечебных стратегий.
Одной из перспективных разработок стали имплантируемые электромеханические устройства. Эти устройства имплантируются в организм, не требуют длительной госпитализации и позволяют дистанционно контролировать состояние пациента и жизненно важные параметры [9]. Имплантируемые тонометры и мониторы уровня глюкозы позволяют выявлять изменения артериального давления и изменения уровня глюкозы на ранней стадии заболевания [9]. Это даёт возможность врачу дистанционно проводить мониторинг, коррегировать лечение и предотвращать развитие серьёзных осложнений [9]. В кардиологической практике такие устройства особенно востребованы, поскольку контролируемые параметры (частота сердечных сокращений, артериальное давление, ритм, уровень глюкозы) имеют огромную клиническую значимость и напрямую предотвращают развитие жизнеугрожающих осложнений [10].
Внедрение в медицинскую практику современных диагностических устройств с беспроводной передачей сигнала может значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения и уменьшить количество диагностических процедур в условиях амбулаторий и диспансеров путём считывания интересующих параметров через имплантируемое устройство, без использования инвазивных методов. Стенты со встроенными датчиками, используемые для восстановления проходимости сосудов, позволят врачам удалённо наблюдать за состоянием пациентов и принимать обоснованные решения о дальнейшей тактике ведения и коррекции лечения [11].
Цель — обобщение данных литературы о существующих имплантируемых микроэлектромеханических системах с дистанционной передачей сигнала в кардиологической практике, описание физических принципов их работы и передачи информации, а также обзор данных об их применении в клинической практике.
Обзор сформирован на основе анализа научных публикаций описывающих микроэлектромеханические системы в медицинской сфере за период с 2004 по 2024 год и размещённых в международных и национальных базах данных, включая PubMed, Researchgate и eLibrary.Ru. Отобраны данные о физических принципах работы датчиков, областях их применения, возможностях удалённого мониторинга параметров и клинических результатах исследований.
Создание имплантируемых датчиков для дистанционного мониторирования продиктовано стремлением более точной фиксации критически важных физиологических параметров организма [12]. В идеальных условиях такие устройства помогут дистанционно определять показания к лечению и корригировать терапию в режиме реального времени [13].
Микроэлектромеханические системы (МЭМС) — это устройства, в которых механическая часть работает совместно с электрической схемой. Они представляют собой дальнейшее развитие микропроизводства, позволяя регистрировать физические процессы и создавать устройства, включающие датчики давления и скорости потока жидкости [14]. Имплантируемые датчики — это устройства, вводимые в организм для отслеживания различных биологических параметров или биомаркеров. Электронные и оптоэлектронные датчики обладают различными свойствами, определяемыми их предназначением в научных исследованиях. Эти устройства крайне сложны, а их функции могут варьировать от устройств, взаимодействующих с мозговой тканью через плотно расположенные микроскопические иглы [15], до более сложных систем и даже терапевтических устройств, таких как имплантаты сетчатки [16].
Медицинская сфера имплантируемых устройств предъявляет строгие требования к их конструкции. Методы микропроизводства, разработанные для создания интегральных схем, были адаптированы для производства биомедицинских устройств [12]. Это позволило имплантировать миниатюрные устройства в тело человека благодаря постоянному прогрессу в технологиях микропроизводства [17]. Например, современный кардиостимулятор может иметь размеры всего 2,5 см и массу менее 15 г [18]. По мере развития МЭМС размер имплантатов будет уменьшаться, что также снизит инвазивность процедур, необходимых для их установки [19]. Конструирование таких имплантируемых устройств ограничено из-за специфики их применения, в частности из-за осложнений, связанных с электрохимической коррозией материалов и иммунными реакциями организма [20].
Разработка МЭМС для медицинских целей связана с рядом проблем на этапах изготовления и интеграции. В первую очередь, необходимо обеспечить биосовместимость и инертность материалов, из которых изготовлены данные устройства, чтобы избежать иммунологических реакций или токсического влияния на организм человека [20, 21]. Ограничения по размеру имплантируемых датчиков требуют использования материалов с высокой механической стабильностью, которые при этом должны обладать значительной пластичностью, как, например, внутрисосудистые датчики, интегрированные в коронарные стенты [22, 23]. При этом каждый сенсорный материал имеет различный электрический отклик на механические нагрузки: например, пьезоэлектрические и ёмкостные материалы обладают различными физическими характеристиками [21, 23, 24]. В кардиологической практике такие устройства особенно востребованы ввиду высокой клинической значимости контролируемых параметров для жизни пациентов [10].
Основной метод имплантации внутрисосудистых датчиков в сердечно-сосудистую систему — эндоваскулярная хирургия. Это современное направление медицины, в котором используются доступы через периферические сосуды. В отличие от традиционных открытых операций, эндоваскулярные процедуры считаются менее травматичными, что позволяет пациентам быстрее вернуться к активной жизни после вмешательства [25]. На сегодняшний день транскатетерные исследования являются одним из наиболее точных методов диагностики состояния сердечно-сосудистой системы [25]. Эндоваскулярная хирургия включает широкий спектр процедур, таких как стентирование коронарных артерий, установка стент-графтов для лечения аневризм и стенозов артерий, а также проведение диагностических манипуляций [26].
С технической точки зрения возможно инвазивное и неинвазивное измерение внутрисосудистого давления в определённом участке сосуда. Инвазивное измерение обладает большей точностью, но требует проведения эндоваскулярных или открытых хирургических процедур, что повышает травматичность вмешательства, увеличивает риск повреждения тканей и сосудов и может привести к нежелательным последствиям [22]. Использование датчика давления, устанавливаемого посредством транскатетерного доступа, позволит более точно оценить показатели кровообращения, которые необходимы врачу для диагностики состояния конкретного участка сосуда [22]. Измерение с помощью ранее имплантированных датчиков является более безопасным, менее зависимым от технических особенностей, но может иметь значимые отклонения от истинных показателей, особенно при низких значениях артериального давления. Имплантируемые внутрисосудистые датчики давления после однократного введения позволят автономно контролировать изменения давления в поражённом участке с высокой точностью, исключая необходимость повторных инвазивных процедур [22].
Существует несколько подходов к классификации этих датчиков, каждый из которых позволяет рассмотреть различные аспекты их работы и механизмов функционирования [27]. В данном обзоре мы представляем классификацию по физическому принципу генерации сигнала, способу передачи питания на устройства, а также по физическому методу функционирования датчиков.
Разновидности и принцип действия устройств
По способу возбуждения сигнала выделяют проводные и беспроводные методы передачи энергии для возбуждения сигнала [28]. Проводные системы не подходят для длительного мониторинга определённого параметра, поскольку требуют постоянного поступления энергии и наличия системы детекции и используются для измерений в определённый момент времени. Продолжительное использование инвазивных методов мониторинга связано с высоким риском инфекционных осложнений и значительно ограничивает повседневную активность пациента. Поэтому в большинстве решений для мониторинга физиологических показателей используют полностью имплантируемые устройства с беспроводной передачей данных между датчиком и внешней системой мониторинга [29].
По механизму энергопотребления устройства подразделяются на активные, пассивные и устройства, работающие за счёт энергии тела человека.
Активные устройства оснащены встроенным источником электроэнергии [30]. Они обладают высоким уровнем функциональности, поскольку их электронные схемы и источник питания объединены в единую систему. При этом сложность конструкции, различные способы компоновки и недостаточная надёжность взаимодействия с другими устройствами являются их основными недостатками. К таким устройствам относятся электрокардиостимуляторы и кардиовертеры-дефибрилляторы или датчик давления в лёгочной артерии, представленный учёными в 2010 году [30, 31]. Чувствительный элемент этого устройства представляет собой конденсатор, время зарядки которого изменяется в зависимости от расстояния между обкладками под воздействием давления. Зависимость ёмкости от времени представлена на рис. 1, а.
Рис. 1. Эквивалентные и функциональные схемы сенсорных и биотехнических систем: а — упрощённая схема цепи зависимости ёмкости от времени [31]; b — эквивалентная схема биологической ткани человека [32]; c — электростатическая генерирующая система переменного ёмкостного типа [33]; d — пьезоэлектрический датчик давления [34]; e — передача сигнала Smart-стента [35]; f — эквивалентная схема передающего и принимающего резонаторов с магнитной связью [36].
Fig. 1. Equivalent and functional circuits of sensor-based and biotechnical systems: a, a simplified circuit for capacity vs. time [31]; b, a circuit equivalent to human tissues [32]; c, an electrostatic variable capacity generation system [33]; d, a piezoelectric pressure-sensing device [34]; e, smart-stent signal transmission [35]; and f, an equivalent circuit for transmitting/receiving magnetic resonators [36].
Для представленной схемы зависимость времени зарядки рассчитывается по формуле:
,
где VMEMS и CMEMS — это напряжение и ёмкость на МЭМС-конденсаторе, Kp — технологический параметр, W — мощность, L — индуктивность, а VDD — напряжение источника.
Данное устройство обладает всеми характерными недостатками имплантируемых систем с активными элементами, включая большие габариты и ограниченный срок службы. Это сыграло значительную роль в развитии технологий, став основой для использования МЭМС-конденсатора в качестве чувствительного элемента имплантируемых датчиков давления, работающих на пассивных схемах [31].
Имплантируемые пассивные медицинские устройства не имеют встроенного источника питания для генерации диагностических импульсов, что обусловливает их простую конструкцию [37]. Например, путём объединения катушки индуктивности с ёмкостным датчиком или датчиком поверхностных акустических волн имплантируемые пассивные устройства могут выполнять различные функции, такие как измерение давления, температуры и определение наличия ионов [38].
Беспроводная зарядка пассивных имплантируемых устройств представляет собой перспективное направление, поскольку не требует прямого вмешательства для повторного использования и значительно увеличивает срок службы таких устройств [39]. Вместо батареи такие устройства используют электромагнитные катушки для приёма энергии от внешней катушки путём индукции, что позволяет избежать ограничений, связанных с наличием встроенных источников питания [40].
До недавнего времени для передачи электромагнитной энергии за пределы поверхностных слоёв тканей была необходима катушка диаметром не менее 1 см. Работа группы учёных из Стэнфордского университета привела к разработке высокопроизводительных беспроводных систем питания, которые могут быть интегрированы в миниатюрные медицинские устройства, такие как стенты. Использование магнитного резонанса и радиочастотной идентификации позволило преодолеть эти ограничения [39].
Некоторые имплантируемые медицинские устройства могут быть оснащены перезаряжаемой батареей и приёмной катушкой [41]. Передающая катушка, расположенная вне тела, создаёт магнитное поле, которое передаёт энергию через кожу к приёмнику. Индуцированный в приёмной катушке переменный ток преобразуется выпрямителем в постоянный. Однако у данного метода передачи энергии имеется ограничение на глубину проникновения сигнала, обусловленное его поглощением тканями и органами человека (рис. 2).
Рис. 2. Зависимость глубины проникновения сигнала от резонансной частоты приёмо-передающего устройства.
Fig. 2. Signal penetration depth vs. resonance frequency in the receiver/transmitter.
Эффективность передачи энергии и уровень её поглощения в значительной степени зависят от электрофизических свойств биологических тканей [42]. Отражённая и переданная энергия электромагнитной волны через поверхности между различными тканями определяется относительной диэлектрической проницаемостью, проводимостью и частотой [42]. Электрические свойства рассматриваемых тканей (кожи, жира и мышц) можно объединить в эквивалентную схему для моделирования (рис. 1, b), где R — сопротивление, G — проводимость, L — индуктивность и C — ёмкость [32]. Численные значения для представленной выше эквивалентной схемы указаны в табл. 1.
Таблица 1. Биоэлектрические параметры ткани человека [43]
Table 1. Bioelectrical parameters of human tissues [43]
Биоэлектрический параметр | Кровь | Мышцы | Кожа |
R, Ом/м | 0 | 0 | 0 |
G, 1/Ом · м | 2,623 | 4,037 | 3,533 |
L, мкГн/м | 1,257 | 1,257 | 1,257 |
C, пФ/м | 6,270 | 6,552 | 3,542 |
Необходимо также учитывать потенциальные риски для людей, подвергающихся воздействию электромагнитных полей. Последние клинические исследования свидетельствуют о том, что электромагнитное излучение может оказывать терапевтический эффект в определённых случаях, но и способен вызывать изменения уровня антиоксидантных маркеров в крови, что свидетельствует о потенциальном риске для здоровья. Дальнейшие исследования необходимы для более детального изучения механизмов влияния электромагнитного излучения на организм человека и определения безопасных пределов его воздействия [44].
Устройства с питанием от энергии тела используют в качестве источника первичной энергии окружающие ткани человека [45]. Эти системы улавливают гравитационную, химическую, механическую, тепловую или электромагнитную энергию, преобразуя её в электрическую энергию [46]. Основная проблема заключается в том, что количество энергии на выходе довольно мало. Но с появлением схем сверхнизкой мощности такой метод энергообеспечения стал привлекательным решением для питания имплантатов [47].
В работе авторов из Японии под руководством Ryoichi Tashiro был разработан электростатический генератор переменной ёмкости, питающий электрокардиостимулятор [33]. Генератор оснащён конденсатором переменной ёмкости, который преобразовывал механическую энергию в электрическую за счёт линейного изменения ёмкости от Cmin до Cmax. При подаче постоянного напряжения V0 генератор имеет электростатическую энергию Ebefore. Когда ёмкость изменяется до Cmin под воздействием внешних сил, напряжение увеличивается:
В дальнейшем генератор приобретает энергию согласно формуле ниже:
Описанная выше схема генератора представлена на рис. 1, c и содержит источник первоначального заряда (ICS), конденсатор переменной ёмкости (VC), ёмкость которого может изменяться внешним механическим усилием, конденсатор для накопления энергии (SC) и двух выпрямительных диодов (D1, D2). Батарея используется только один раз для подачи электрического заряда на конденсатор микросхемы в самом начале выработки электроэнергии. В одном рабочем цикле есть две фазы. Сначала, когда напряжение переменного тока низкое, микросхема подаёт электрический заряд к VC в направлении против часовой стрелки (ICS — D1 — VC — ICS). После этого, по мере постепенного уменьшения ёмкости C1 под действием внешней силы, напряжение V1 увеличивается. Затем электрический заряд VC поступает в накопительный конденсатор по часовой стрелке (ICS — VC — D2 — SC — ICS). В то же время электрический заряд возвращается и заполняет микросхемы. Количество электрического заряда в микросхемах остаётся постоянным в течение одного рабочего цикла. В итоге электрическая энергия в накопительном конденсаторе увеличивается, т. е. механическая работа, выполняемая внешней силой, преобразуется в электрическую энергию.
Исследование работоспособности генератора проводилось на лабораторных животных, где в качестве места имплантации выбрана стенка желудочка сердца, поскольку её сокращения имеют большую амплитуду и происходят непрерывно. В эксперименте электростатическая генерирующая система переменной ёмкости смогла вырабатывать 36 мкВт для питания кардиостимулятора в течение более чем 2 ч [33].
Очевидно, что требуется дополнительная работа для достижения либо большей выходной мощности для устройств с длительным сроком службы, либо прогресса в снижении энергопотребления миниатюрных устройств, что позволит обеспечить энергоснабжение имплантируемого устройства при ограниченном доступе к источникам энергии [48].
По физическому принципу работы датчики подразделяются на пьезоэлектрические и ёмкостные.
Пьезоэлектрический эффект возникает из-за асимметрии заряда внутри кристаллической структуры. В материале с пьезоэлектрическими свойствами ионы легче перемещаются вдоль определённой оси, чем вдоль других. При воздействии внешней силы ионы смещаются таким образом, что противоположные грани кристалла приобретают противоположные электрические заряды. Когда кристалл подключается к цепи с высоким импедансом, возникает измеримый электрический ток [49].
Современные пьезоэлектрические датчики обычно оснащены мембраной, передающей давление жидкости на преобразовательный элемент, который одновременно выполняет функцию чувствительного элемента. В пьезоэлектрическом датчике измеряемая величина передаётся непосредственно через твёрдые металлические детали на преобразовательный элемент. Вызванное таким образом механическое напряжение поляризует элемент за счёт пьезоэлектрического эффекта, который выдаёт пропорциональный электрический заряд на выходе (рис. 1, d) [50].
Пьезоэлектрические материалы, такие как поливинилиден и нитрид алюминия, имеют более низкий модуль Юнга, чем традиционные хрупкие композиты на основе цирконат-титаната свинца, используемые в ультразвуковых системах, что упрощает их изготовление и интеграцию в гибкие подложки с более высокой механической растяжимостью. Небольшие, компактные и тонкие датчики давления могут быть изготовлены путём размещения пьезоэлектрических материалов между металлическими электродами [51].
Основными преимуществами пьезоэлектрического датчика являются высокая чувствительность при низких значениях давления (<5 кПа), малый гистерезис и стойкость к вибрациям, что позволяет использовать этот датчик давления в большинстве промышленных предприятий [52]. Существенным недостатком данного метода измерения является схемотехническая сложность и низкая надёжность, поэтому основная сфера его применения — транскатетерное исследование сердечно-сосудистой системы [52].
Ёмкостный датчик давления функционирует за счёт изменения ёмкости, возникающей при воздействии разности давлений, что приводит к изменению расстояния между обкладками и последующему преобразованию этих изменений в электрический сигнал. Данное устройство впервые было разработано в начале 1960-х годов [52]. Оно продемонстрировало основные преимущества ёмкостного зондирования, а именно: высокую чувствительность к давлению [53], низкое энергопотребление и низкую температурную перекрёстную чувствительность [54].
Ёмкостные датчики обычно состоят из диэлектрического материала, зажатого между токопроводящими электродами, что обеспечивает хорошую чувствительность к высоким давлениям. Также неоспоримым преимуществом данного метода измерения давления является простота конструкции и возможность беспроводной передачи энергии за счёт объединения конденсатора с катушкой индуктивности для формирования резонансного контура с подвижной верхней обкладкой конденсатора. В данном случае изменение давления может быть обнаружено по изменению резонансной частоты за счёт изменения ёмкости [35]:
Благодаря простоте организации беспроводного подключения данное устройство широко используется для создания систем smart-стента и стент-графта [56]. На рис. 1, e представлен принцип действия описанного выше smart-стента. С помощью прибора для измерения импеданса, подключённого к внешней антенне, можно измерить характеристики резонансной частоты датчика, которая косвенно указывает на внутрисосудистое давление [56].
По способу подачи энергии на устройство через ткани человека выделяют ультразвуковой и электромагнитный методы.
Ультразвуковая передача энергии
Метод ультразвуковой передачи энергии реализован в устройстве PAPIRUS II (Boston Scientific, Marlboro, США). Датчик разработан для детекции давления в аневризматическом участке аорты, способен определять наличие эндолика и служит для контроля давления после установки стент-графта. Это имплантируемое устройство используется для измерения давления в лёгочной артерии при хронической сердечной недостаточности [57]. Устройство состоит из имплантата и внешнего блока. Имплантат содержит датчик давления, пьезоэлектрический преобразователь, микросхему управления и аккумулятор (рис. 3).
Рис. 3. Датчик давления при аневризме брюшной аорты [58].
Fig. 3. Pressure-sensing device for monitoring abdominal aortic aneurysms [58].
Такой метод энергообеспечения позволяет обходиться без встроенных источников питания, продлевая срок службы имплантата [58]. Активированный датчик измеряет давление, используя ёмкостный метод. В течение 10 с фиксируется полная форма колебаний давления, позволяя анализировать его динамику [58]. Переданный аналоговый сигнал восприимчив к электромагнитным помехам, т. к. любые изменения окружающего электрического поля могут индуцировать дополнительные шумы и искажения [59, 60].
Сложившуюся проблему восприимчивости аналогового сигнала к электромагнитным помехам смогли преодолеть учёные из Германии, используя цифровую передачу сигнала вместо аналоговой [58]. Датчик, разработанный для детектирования давления в аневризматическом мешке, способен определять наличие эндолика и служит для контроля давления после установки стент-графта. Разработанный датчик выполнен в виде капсулы, которая содержит необходимые пассивные компоненты (конденсаторы, приёмную катушку и стабилитроны), а также блок цифровой обработки данных [58].
Электромагнитная передача энергии
Беспроводная передача энергии через ткани пациента возможна благодаря электромагнитным полям. Одним из примеров такой технологии является система поддержки кровообращения Leviticus Cardio, разработанная в Израиле [36]. В основе её работы лежит технология Coplanar Energy Transfer, обеспечивающая передачу энергии между двумя магнитными катушками: одна имплантирована в плевральную полость, другая расположена на поверхности грудной клетки. Передача энергии осуществляется путём электромагнитной индукции (рис. 1, f) [36]. Устройство кровообращения обеспечивается автономной работой до 6–8 ч, что значительно улучшает качество жизни пациентов. Искусственный желудочек сердца с роторным или помповым насосом для поддержки кровообращения используется у пациентов с сердечной недостаточностью вплоть до момента трансплантации сердца [36].
Передача энергии в данной системе осуществляется посредством двух резонаторов, которые взаимодействуют через электромагнитные поля. Усилитель мощности подаёт сигнал переменного тока на передающий резонатор, состоящий из однооборотного контура возбуждения и многовитковой катушки. Проходящий через передающую катушку ток создает магнитное поле, которое индуцирует электрический ток во 2-м резонаторе, установленном в плевральной полости. Этот резонатор также включает многовитковую катушку и одновитковый приёмный контур. Полученный сигнал переменного тока выпрямляется и преобразуется в постоянное напряжение, которое затем через контроллер подаётся на насос искусственного желудочка сердца.
Передача энергии зависит от расстояния между передающим и приёмным резонаторами, причём их связь обратно пропорциональна этому расстоянию. Автоматическая система настройки динамически регулирует рабочую частоту, адаптируясь к изменениям положения резонаторов, что позволяет поддерживать максимальную эффективность передачи энергии. Для резонаторов одинакового размера зона эффективной передачи энергии охватывает расстояние до двух радиусов катушки. Дальность передачи можно увеличить за счёт добавления промежуточной катушки между передающим и приёмным резонаторами или использования нескольких релейных резонаторов. Однако каждый дополнительный элемент несколько снижает общую эффективность системы из-за паразитных потерь [55].
Клиническое применение системы Leviticus Cardio описано у двух пациентов возрастом 51 и 24 лет с терминальной стадией сердечной недостаточности, которым впервые была имплантирована данная система. Результаты раннего наблюдения подтвердили эффективность системы: заряда батареи хватало на 8,5 ч работы роторного насоса. В ходе исследования не было зафиксировано сбоев в работе устройства, а также инфекционных осложнений, связанных с его установкой [61].
Примеры имплантируемых медицинских устройств
Коронарные стенты
Коронарные стенты представляют собой полые трубчатые конструкции с металлическим каркасом, используемые для восстановления проходимости артерий, суженных в результате атеросклероза [62]. В России ежегодное количество эндоваскулярных вмешательств с использованием коронарных стентов увеличивается с каждым годом и составляет примерно 27,5 на 100 тыс. населения ежегодно [63]. Для эндоваскулярного доступа используют периферические артерии и выполняется селективная ангиография коронарного русла для выявления стенозов, ограничивающих приток крови к миокарду [11]. После процедуры стентирования атеросклеротические изменения могут приводить к рестенозу или утолщению внутренней стенки сосуда, тромбозу и пролиферации гладкомышечных клеток [11]. Несмотря на использование стентов с лекарственным покрытием, которое содержит препараты для подавления пролиферации эндотелия, стеноз может произойти до 15% случаев [64, 65].
С целью выявления тромбозов и контроля за проходимостью коронарных артерий после стентирования были разработаны стенты со встроенным датчиком давления и системой связи (smart-стенты), основанные на микро- или наноэлектромеханических системах и обладающие огромным потенциалом в обеспечении диагностической обратной связи для раннего выявления любых неблагоприятных тромботических явлений [62]. Данная технология способна предоставить ценную информацию о состоянии коронарного русла и имеет решающее значение для своевременного принятия мер и повышения вероятности проведения успешной процедуры реваскуляризации [66].
В обзорной статье J. Vishnu и G. Manivasagam рассматриваются перспективы разработки стентов с системой мониторинга давления. Основными функциями smart-стента должны быть: точное измерение давления, скорости кровотока и контроль эндотелизации. Например, модель стента, разработанная в 2010 году, детектирует рост эндотелиальных клеток за счёт изменения поверхностного заряда, что приводит к изменению резонанса и частоты работы устройства, указывая на процесс эндотелизации.
Новой парадигмой в исследовании smart-стентов стало применение биодеградируемых материалов для их каркаса. В частности, используются полимерные соединения на основе молочной кислоты, такие как поли-L-лактид, поли-D-лактид и поликапролактон, с интегрированной системой датчиков давления. Эти датчики способны измерять давление до 230 мм рт. ст. [11].
Серьёзным осложнением при установке коронарных стентов с лекарственным покрытием является поздний тромбоз, возникающий из-за незащищённых элементов стента, которые покрываются эндотелиальными клетками в процессе заживления [11]. Длительное наблюдение за процессом эндотелизации может помочь врачам в более точном подборе антитромбоцитарной терапии. Исследования в этой области в основном остаются на стадии моделирования и экспериментальных разработок.
В исследовании 2010 года команда учёных под руководством E.Y. Chow представила полностью беспроводной имплантируемый монитор давления, интегрированный в медицинский стент. Устройство передавало данные с разрешением 0,5 мм рт. ст. в диапазоне 0–50 мм рт. ст., получая питание извне и обеспечивая передачу данных на расстоянии до 10 см [31]. На основе этих разработок в 2014 году был представлен интеллектуальный телеметрический стент для беспроводного мониторинга внутрисосудистого давления [31]. В обзоре 2023 года подчёркивался потенциал таких устройств для непрерывного мониторинга пациентов, а также отмечались нерешённые проблемы, препятствующие их клиническому внедрению: биосовместимость, надёжность передачи данных и стандартизация протоколов [31].
Несмотря на прогресс, широкомасштабное применение smart-стентов требует дополнительных испытаний для подтверждения их безопасности и эффективности. Текущие исследования направлены на решение этих проблем, чтобы внедрить инновационные устройства в клиническую практику [11].
Стент-графты
Стент-графты представляют собой передовой метод оказания высокоспециализированной помощи при аневризмах аорты. Острое расслоение грудной аорты является ургентным состоянием. Наиболее тяжёлым считается тип A расслоения аорты вследствие аорто-ассоциированных катастроф, при котором летальность может достигать до 70–80% [64]. Медикаментозное лечение сопровождается летальностью 50–70% в течение первого месяца и признается неэффективным [67].
Впервые эндоваскулярная пластика аневризмы абдоминальной аорты была выполнена D. Loschi и соавт. в 1991 году. Современные протоколы наблюдения после установки эндоваскулярного стент-графта для коррекции аневризм аорты основаны преимущественно на дорогостоящих и трудоемких методах визуализации, направленных на выявление миграции трансплантата и разрывов эндотелия в аневризматически изменённых участках аорты [68].
Гибридный стент-графт представляет собой конструкцию, состоящую из металлического каркаса, покрытого тканью. После установки в просвет аорты устройство выполняет функцию эндопротезирования сосудистой стенки. Однако применение данного метода может сопровождаться развитием осложнений, наиболее распространённым из которых является эндолик — наличие кровотока внутри аневризматического мешка после эндоваскулярного вмешательства [69]. Эндолики I, II и III типов представляют наибольшую опасность, поскольку сопровождаются повышением давления в аневризматическом мешке, что может способствовать его прогрессирующему увеличению, разрыву аневризмы и, как следствие, летальному исходу из-за массивного кровотечения.
С целью контроля давления в аневризматическом мешке был разработан имплантируемый телеметрический датчик давления EndoSure Sensor. Встроенный в имплантат, этот датчик помогает выявлять эндолики и снижает необходимость в дальнейших обследованиях с использованием контрастных веществ. Устройство состоит из электронных компонентов, окружённых нитями из нитинола в виде корзины, в центре которой расположено активное устройство. Датчик не имеет батареи и использует энергию от внешнего источника. Испытания в естественных условиях показали, что датчик сохраняет работоспособность в течение нескольких лет, демонстрируя высокую стабильность [57].
T. Ohki и соавт. представили результаты клинического испытания EndoSure Sensor [70]. В исследование включено 90 пациентов из 12 медицинских центров, средний возраст которых составил 72,3 года. Средний диаметр аневризмы на момент обследования составил 5,48±1,07 см. Время процедуры в среднем составило 205±87 мин, объём кровопотери — 471±387 мл. После проведения эндоваскулярной пластики аневризмы давление, зафиксированное в полости аневризматического мешка, снизилось с 59,34±17,8 мм рт. ст. до 27,5±18,8 мм рт. ст. Калибровка датчика проводилась с использованием данных прямой манометрии во время установки устройства и при удалении проводника. Для оценки безопасности использования устройства и стабильности его показаний было проведено 30-дневное наблюдение пациентов. В этот период не было выявлено признаков эндолика, и давление в полости аневризматического мешка оставалось стабильным. В ходе исследования зафиксировано пять случаев несоответствия давления, измеренного датчиком, и давления, зарегистрированного во время эндоваскулярной процедуры. Однако это не повлияло на результаты, и в дальнейшем, после установки стент-графта, давление в раннем послеоперационном периоде также снизилось. Нежелательных событий, связанных с использованием устройства, не было зарегистрировано [71]. В течение раннего послеоперационного периода наблюдения зафиксировано два летальных исхода, однако оба случая были связаны с тяжёлым течением основного заболевания и сопутствующих патологий, а не с процедурой имплантации или работой датчика [65].
Стент-графты так же, как и стенты со встроенным датчиком и системой связи (smart стент-графты), основанные на микро- или наноэлектромеханических системах, обладают огромным потенциалом в обеспечении диагностической обратной связи для выявления эндолика [71].
Основным недостатком ёмкостных датчиков давления в smart-стентах и стент-графтах является отсутствие на данный момент отработанных механизмов защиты от нарастания эндотелия, вследствие чего механическая часть прекращает функционировать [72].
Датчик давления лёгочной артерии
CardioMEMS — имплантируемый датчик для измерения давления в ветвях лёгочной артерии, применяемый при лёгочной артериальной гипертензии. Устройство представляет собой жидкокристаллический резервуар (индуктивно-ёмкостной) и работает на вышеописанном принципе действия [58].
В домашних условиях с использованием портативного электронного устройства и специального датчика с антенной собираемая информация преобразуется в данные о давлении и передаётся на защищённый сервер для дальнейшей обработки. Процесс считывания данных осуществляется безболезненно, при этом датчик с антенной прикладывается к телу в предполагаемой локализации устройства, что не вызывает каких-либо значимых ощущений. Ежедневно электронный блок передаёт результаты измерений давления в лёгочной артерии врачу, что позволяет корректировать терапию сердечной недостаточности до появления клинических признаков застойных явлений. Это, в свою очередь, способствует снижению частоты госпитализаций и летальных исходов [58].
Датчик продемонстрировал значительное снижение частоты госпитализаций среди пациентов с сердечной недостаточностью III функционального класса по классификации NYHA [73]. С 2014 года сенсор официально одобрен для контроля за пациентами с сердечной недостаточностью. В одном из исследований S. Sarsam и соавт. продемонстрировали успешное раннее выявление инфекционного эндокардита с поражением аортального клапана, обнаруженного с помощью данного устройства, что было связано с повышением давления в лёгочной артерии [68].
Кроме того, мониторинг давления в лёгочной артерии с использованием подобных технологий может быть полезен для оптимизации лечения пациентов с лёгочной гипертензией и перед имплантацией искусственного желудочка сердца для раннего выявления осложнений после имплантации. Такой подход расширяет возможности комплексного ведения тяжёлых пациентов и улучшения прогноза заболевания [58, 74]. В Российской Федерации аналогичные имплантируемые датчики пока не применяются в клинической практике, развивается направление дистанционного мониторинга пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с использованием других технологий. Это соответствует общемировой тенденции к цифровизации и персонализации кардиологической помощи.
В 2018 году D.C. Feldman и соавт. исследовали имплантируемый датчик для измерения давления в ветвях лёгочной артерии как инструмент для выбора оптимального времени имплантации и оптимизации работы искусственного желудочка сердца [58, 74]. Устройство было имплантировано 27 пациентам в течение 18 мес, в ходе которых оценивались показатели системного и лёгочного давления, а также биохимические показатели крови. Все пациенты получали схожую медикаментозную терапию. Имплантация искусственного желудочка сердца была выполнена раньше, чем планировалось, на основании повышенных показателей давления в лёгочном русле, зарегистрированных устройством [75]. Аналогичные результаты получены в исследованиях J.F. Veenis и соавт., показавших, что использование датчика для измерения давления в ветвях лёгочной артерии улучшает результаты наблюдения за пациентами с терминальной стадией сердечной недостаточности, которым впоследствии потребовалась трансплантация сердца [76].
Частота осложнений, связанных с имплантируемым датчиком в ветвях лёгочной артерии устройством, крайне низка и составляет около 1% от всех имплантаций. В большинстве случаев осложнения ограничиваются кровотечениями в месте пункции после эндоваскулярной процедуры [76]. Приведённые результаты демонстрируют важность данного устройства в клинической практике для контроля давления и управления терапией у пациентов с сердечной недостаточностью.
Заключение
Развитие микроэлектроники позволяет создавать микросхемы для имплантации внутрь пациента и отслеживания нужных показателей. Эти устройства отличаются миниатюрностью, длительным мониторингом состояния пациента, снижением инвазивности процедур имплантации и персонализированным подходом к лечению. Современные достижения в области микроэлектромеханических систем открывают новые горизонты в кардиологии, создавая более сложные системы для мониторинга физиологических показателей организма. При сердечно-сосудистых заболеваниях важны параметры давления и скорости потока на поражённом участке. Их внедрение поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения, уменьшить количество госпитализаций, повысить качество мониторинга и своевременно выявлять жизнеугрожающие состояния. Исследования МЭМС расширяют сферу применения устройств благодаря высокотехнологичным разработкам, что модернизирует систему здравоохранения. Системы дистанционного мониторинга решают несколько задач: снижают количество инвазивных процедур, позволяют однократно установить датчик в нужной зоне, принимают решения о повторных процедурах и корректировке лечения, а также обеспечивают удалённый мониторинг физиологических показателей.
Дополнительная информация
Вклад авторов. Т.А.А. — определение концепции, работа с данными, пересмотр и редактирование рукописи; Т.Н.М. — определение концепции, визуализация, написание черновика рукописи; Б.Е.С. — редактирование рукописи и общее руководство. Авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты настоящей работы, гарантируют надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Источники финансирования. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (theme No. FEWM-2024-0008).
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. В данной работе отсутствует заимствование или повторное использование собственных либо чужих материалов без соответствующих ссылок. Статья имеет обзорный характер и содержит библиографические ссылки на все использованные и рассмотренные источники информации.
Доступ к данным. Авторы предоставляют ограниченный доступ к данным (по запросу, после завершения периода эмбарго). Данные, использованные в настоящем исследовании, могут быть предоставлены по обоснованному запросу. Запрос должен содержать описание цели использования данных. Контактное лицо для получения доступа: А.А. Таловская — e-mail: alenaatalovskaia@tusurru.
Объём данных, доступных для предоставления: результаты поиска в библиографических базах.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена в соответствии с процедурой fast-track. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
Additional information
Author contributions: T.A.A.: conceptualization, data curation, writing—review & editing; T.N.M.: conceptualization, visualization, writing—original draft; B.E.S.: writing—review & editing, general supervision. Authors approved the version of the manuscript to be published and agree to be accountable for all aspects of this work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Funding sources: Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (theme No. FEWM-2024-0008).
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: This work does not contain any material adopted or reprinted from other sources without proper referencing. This is an overview article that contains bibliographic references to all sources of information that were used and reviewed.
Data availability statement: The authors provide limited access to the data (upon request, post-embargo). The data used in this study can be made available upon reasonable request. The request must include a detailed description of the intended use of the data. Contact person for access inquiries: A.A. Talovskaya, email: alenaatalovskaia@tusurru.
The extent of data available: search results in bibliographic databases.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the fast-track procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
About the authors
Alena A. Talovskaia
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
Author for correspondence.
Email: alena.a.talovskaia@tusur.ru
ORCID iD: 0009-0001-6796-1135
SPIN-code: 1488-3280
junior research associate, Lab. of Microsystems Technology, engineer Scientific and Educational Centre ‘Nanotechnologies’
Russian Federation, TomskEvgeny S. Barbin
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
Email: evgeniisbarbin@tusur.ru
ORCID iD: 0000-0001-5904-0216
SPIN-code: 5976-5975
Cand. Sci. (Engineering), Head, Microsystems Technology Laboratory, senior research associate, Lab. of Microelectronic and Photonic Systems of the MES Research Institute and the Laboratory of Microwave Microelectronics of the MES Research Institute, Assistant Professor, Advanced engineering schools “Electronic Instrumentation and Communication Systems named after AV Kobzev”
Russian Federation, TomskNikita M. Troshkinev
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics; Tomsk National Research Medical Center
Email: nikitamtroshkinev@tusur.ru
ORCID iD: 0000-0001-7627-7303
SPIN-code: 4983-5122
MD, Cand. Sci. (Medicine), Doctor, and Cardiovascular Surgeon, Cardiac Surgery Depart. № 2, research associate, Tomsk NRMC, Cardiology Research Institute, and of the Microsystems Technology Laboratory
Russian Federation, Tomsk; TomskReferences
- Kannel WB, Gordon T. The Framingham study. An epidemiological investigation of cardiovascular disease. 1972. 512 p.
- Kimura N, Keys A. Coronary heart disease in seven countries. X. Rural southern Japan. Circulation. 1970;41(4 Suppl):I101–I112.
- Vishnevsky AG, Andreyev EM, Timonin SA. Mortality from diseases of the circulatory system and life expectancy in Russia. Demographic Review. 2016;3(1):6–34. doi: 10.17323/demreview.v3i1.1761 EDN: WFEIZF
- Amini M, Zayeri F, Salehi M. Trend analysis of cardiovascular disease mortality, incidence, and mortality-to-incidence ratio: results from global burden of disease study 2017. BMC Public Health. 2021;21(1):1–12. doi: 10.1186/s12889-021-10429-0 EDN: DJPNAQ
- Bhatnagar P, Wickramasinghe K, Williams J, et al. The epidemiology of cardiovascular disease in the UK 2014. Heart. 2015;101(15):1182–1189. doi: 10.1136/heartjnl-2015-307516 EDN: WOJSXX
- Cesare MD, Bixby H, Gaziano T, et al. World Heart Report 2023: Confronting the World's Number One Killer. World Heart Federation. Geneva, Switzerland. 2023. 52 p. Available from: https://www.medbox.org/pdf/657c1d1c070c689769084a77
- WHO. World health statistics 2022: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. 2022. 125 p. ISBN: 9789240051157; 9789240051140 (electronic version)
- Kazi DS, Elkind MSV, Deutsch A, et al. Forecasting the Economic Burden of Cardiovascular Disease and Stroke in the United States Through 2050: A Presidential Advisory From the American Heart Association. Circulation. 2024;150(4). doi: 10.1161/CIR.0000000000001258 EDN: QEHGPN
- Pelter MN, Quer G, Pandit J. Remote Monitoring in Cardiovascular Diseases. Curr Cardiovasc Risk Rep. 2023;17(11):177–184. doi: 10.1007/s12170-023-00726-1 EDN: HFLIBE
- Lou L, Detering L, Luehmann H, et al. Visualizing Immune Checkpoint Inhibitors Derived Inflammation in Atherosclerosis. Circ Res. 2024;135(10):990–1003. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.124.324260 EDN: SJNFTJ
- Vishnu J, Manivasagam G. Perspectives on smart stents with sensors: From conventional permanent to novel bioabsorbable smart stent technologies. Med Devices Sensors. 2020;3(6). doi: 10.1002/mds3.10116 EDN: GWODBK
- Yogev D, Goldberg T, Arami A, et al. Current state of the art and future directions for implantable sensors in medical technology: Clinical needs and engineering challenges. APL Bioeng. 2023;7(3). doi: 10.1063/5.0152290 EDN: CXBAQH
- Sim D, Brothers MC, Slocik JM, et al. Biomarkers and Detection Platforms for Human Health and Performance Monitoring: A Review. Adv Sci. 2022;9(7). doi: 10.1002/advs.202104426 EDN: RALGDX
- Algamili AS, Khir MHM, Dennis JO, et al. A Review of Actuation and Sensing Mechanisms in MEMS-Based Sensor Devices. Nanoscale Res Lett. 2021;16(1):16. doi: 10.1186/s11671-021-03481-7 EDN: AVIMJP
- Liu X, Gong Y, Jiang Z, et al. Flexible high-density microelectrode arrays for closed-loop brain-machine interfaces: a review. Front Neurosci. 2024;18:1348434. doi: 10.3389/fnins.2024.1348434 EDN: WVKQSB
- Wu KY, Mina M, Sahyoun J-Y, et al. Retinal Prostheses: Engineering and Clinical Perspectives for Vision Restoration. Sensors. 2023;23(13):5782. doi: 10.3390/s23135782 EDN: VXPLUR
- Zayats VV, Sergeyev IK, Trufanov II, et al. Wireless charging technologies for implantable autonomous medical devices. Biomed Radioelectron. 2022;25(2–3):104–110. doi: 10.18127/j15604136-202202-11 EDN: RYMLDF
- Tomita Y, Imoto Y, Tominaga R, et al. Successful implantation of a bipolar epicardial lead and an autocapture pacemaker in a low-body-weight infant with congenital atrioventricular block: Report of a case. Surg Today. 2000;30(6):555–557. doi: 10.1007/s005950070128
- El-Saleh AA, Sheikh AM, Albreem MAM, et al. The Internet of Medical Things (IoMT): opportunities and challenges. Wirel Networks. 2025;31:327–344. doi: 10.1007/s11276-024-03764-8 EDN: DBHOEM
- You Z, Wei L, Zhang M, et al. Hermetic and Bioresorbable Packaging Materials for MEMS Implantable Pressure Sensors: A Review. IEEE Sens J. 2022;22(24):23633–23648. doi: 10.1109/JSEN.2022.3214337 EDN: QKHSSL
- Veletić M, Apu EH, Simić M, et al. Implants with Sensing Capabilities. Chem Rev. 2022;122(21):16329–16363. doi: 10.1021/acs.chemrev.2c00005 EDN: XAZVLG
- Lanzer P, editor. Textbook of catheter-based cardiovascular interventions. Cham: Springer International Publishing; 2018. doi: 10.1007/978-3-319-55994-0
- Gray M, Meehan J, Ward C, et al. Implantable biosensors and their contribution to the future of precision medicine. Vet J. 2018;239:21–29. doi: 10.1016/j.tvjl.2018.07.01
- Flynn CD, Chang D, Mahmud A, et al. Biomolecular sensors for advanced physiological monitoring. Nat Rev Bioeng. 2023;1(8):560–575. doi: 10.1038/s44222-023-00067-z EDN: NEBCSF
- Cruddas L, Martin G, Riga C. Robotics and Endovascular Surgery: Current Status. In: Mastering Endovascular Techniques. Cham: Springer International Publishing; 2024. P. 111–125. doi: 10.1007/978-3-031-42735-0_13
- Svetlikov AV. The history of the world's first stent graft invention. The role of Professor Volodos. Masks thrown off. Russian Journal of Endovascular Surgery. 2017;4(4):268–278. doi: 10.24183/2409-4080-2017-4-4-268-278
- Yogev D, Goldberg T, Arami A, et al. Current state of the art and future directions for implantable sensors in medical technology: Clinical needs and engineering challenges. APL Bioeng. 2023;7(3):031506. doi: 10.1063/5.0152290 EDN: CXBAQH
- Wang M, Yu Y, Liang Y, et al. High-performance Multilayer Flexible Piezoresistive Pressure Sensor with Bionic Hierarchical and Anisotropic Structure. J Bionic Eng. 2022;19(5):1439–1448. doi: 10.1007/s42235-022-00219-8 EDN: EJFDRO
- Kwon K, Kim JU, Won SM, et al. A battery-less wireless implant for the continuous monitoring of vascular pressure, flow rate and temperature. Nat Biomed Eng. 2023;7(10):1215–1228. doi: 10.1038/s41551-023-01022-4 EDN: HTSKIS
- Campi T, Cruciani S, Palandrani F, et al. Wireless Power Transfer Charging System for AIMDs and Pacemakers. IEEE Trans Microw Theory Tech. 2016;64(2):633–642. doi: 10.1109/TMTT.2015.2511011
- Chow EY, Chlebowski AL, Chakraborty S, et al. Fully wireless implantable cardiovascular pressure monitor integrated with a medical stent. IEEE Trans Biomed Eng. 2010;57(6):1487–1496. doi: 10.1109/TBME.2010.2041058 EDN: OEHDRT
- de Ménorval MA, Mir LM, Fernández ML, et al. Effects of Dimethyl Sulfoxide in Cholesterol-Containing Lipid Membranes: A Comparative Study of Experiments In Silico and with Cells. PLoS One. 2012;7(7):e41733. doi: 10.1371/journal.pone.0041733
- Park DS, Hadad M, Riemer LM, et al. Induced giant piezoelectricity in centrosymmetric oxides. Science. 2022;375(6581):653–657. doi: 10.1126/science.abm7497 EDN: MGEWAH
- Mohammed MK, Al-Nafiey A, Al-Dahash G. Manufacturing Graphene and Graphene-based Nanocomposite for Piezoelectric Pressure Sensor Application: A Review. Nano Biomed Eng. 2021;13(1):27–35. doi: 10.5101/nbe.v13i1.p27-35 EDN: NGBHHW
- Park J, Kim JK, Patil S, et al. A Wireless Pressure Sensor Integrated with a Biodegradable Polymer Stent for Biomedical Applications. Sensors. 2016;16(6):809. doi: 10.3390/s16060809
- Wang JX, Smith JR, Bonde P. Energy transmission and power sources for mechanical circulatory support devices to achieve total implantability. Ann Thorac Surg. 2014;97(4):1467–1474. doi: 10.1016/j.athoracsur.2013.10.107
- United States Patent Application Publication. Carbunaru R, Jaax KN, Digiore A, Schleicher B. Thermal management of implantable medical devices. Pub. No.: US 2009/0082832 A1. Pub. Date: Mar. 26, 2009. 7 p.
- Kou H, Yang L, Zhang X, et al. A dual LC resonant circuit integrated wireless passive force and temperature sensor for harsh-environment applications. AIP Adv. 2022;12(6):065102. doi: 10.1063/5.0089306 EDN: FZUIDE
- Ho JS, Kim S, Poon ASY. Midfield Wireless Powering for Implantable Systems. Proc IEEE. 2013;101(6):1369–1378. doi: 10.1109/JPROC.2013.2251851
- Khalifa A, Lee S, Molnar AC, Cash S. Injectable wireless microdevices: challenges and opportunities. Bioelectron Med. 2021;7(1):19. doi: 10.1186/s42234-021-00080-w EDN: KVDEFZ
- Gurov KO, Mindubaev EA, Danilov AA, Selyutina EV. Wireless power transfer appliance with high resistance to inductive coils displacements for powering implanted medical devices. Problems of Advanced Micro- and Nanoelectronic Systems Development. 2022;(2):40–46. doi: 10.31114/2078-7707-2022-2-40-46 EDN: GOBAIO
- Amin B, Shahzad A, O'Halloran M, et al. Microwave Bone Imaging: A Preliminary Investigation on Numerical Bone Phantoms for Bone Health Monitoring. Sensors. 2020;20(21):6320. doi: 10.3390/s20216320 EDN: LKRBSA
- Nzao ABS. Study and Modeling of Human Biological Tissue Exposed to High Frequency Electromagnetic Waves. Open J Appl Sci. 2021;11(10):1109–1121. doi: 10.4236/ojapps.2021.1110083 EDN: KCXGIL
- Mimi M, Land DV. Nonresonant perturbation measurement of antenna electromagnetic field configurations for biomedical applications. J Photogr Sci. 1991;39(4):161–163. doi: 10.1080/00223638.1991.11737141
- Bhatnagar V, Owende P. Energy harvesting for assistive and mobile applications. Energy Sci Eng. 2015;3(3):153–173. doi: 10.1002/ese3.63
- Shuvo MMH, Titirsha T, Amin N, Islam SK. Energy harvesting in implantable and wearable medical devices for enduring precision healthcare. Energies. 2022;15(20):7495. doi: 10.3390/en15207495 EDN: HHMYOV
- Ghemari Z, Belkhiri S, Saad S. A piezoelectric sensor with high accuracy and reduced measurement error. J Comput Electron. 2024;23:448–455. doi: 10.1007/s10825-024-02134-z EDN: SPLUHL
- Tashiro R, Kabei N, Katayama K, et al. Development of an electrostatic generator for a cardiac pacemaker that harnesses the ventricular wall motion. J Artif Organs. 2002;5(4):239–245. doi: 10.1007/s100470200045
- Ghemari Z, Belkhiri S, Saad S, et al. A piezoelectric sensor with high accuracy and reduced measurement error. Journal of Computational Electronics. 2023. doi: 10.21203/rs.3.rs-3554152/v1
- Wang L, Qin L, Li L. Piezoelectric dynamic pressure sensor. In: 2010 IEEE International Conference on Information and Automation (ICIA). 2010. p. 906–911. doi: 10.1109/ICINFA.2010.5512134
- Wu Y, Ma Y, Zheng HY, et al. Piezoelectric materials for flexible and wearable electronics: A review. Materials & Design. 2021;211:110164. doi: 10.1016/j.matdes.2021.110164 EDN: JAEFAI
- Torri A, Foken T, Bange J. Pressure Sensors. In: Springer Handbook of Atmospheric Measurements. Foken T, editor. Springer Handbooks. Cham: Springer; 2021. P. 273–295. doi: 10.1007/978-3-030-52171-4_10
- Rogers T, Kowal J. Selection of glass, anodic bonding conditions and material compatibility for silicon-glass capacitive sensors. Sensors Actuators A Phys. 1995;46(1–3):113–120. doi: 10.1016/0924-4247(94)00872-F
- Pons P, Blasquez G. Low-cost high-sensitivity integrated pressure and temperature sensor. Sensors Actuators A Phys. 1994;42(1–3):398–401. doi: 10.1016/0924-4247(94)80020-0
- Waters BH, Smith JR, Bonde P. Innovative Free-range Resonant Electrical Energy Delivery system (FREE-D System) for a ventricular assist device using wireless power. ASAIO J. 2014;60(1):31–37. doi: 10.1097/MAT.0000000000000029
- Song P, Ma Z, Ma J, et al. Recent progress of miniature MEMS pressure sensors. Micromachines. 2020;11(1):1–38. doi: 10.3390/mi11010056
- Ohki T, Ouriel K, Silveira PG, et al. Initial results of wireless pressure sensing for endovascular aneurysm repair: The APEX Trial-Acute Pressure Measurement to Confirm Aneurysm Sac EXclusion. J Vasc Surg. 2007;45(2):236–242. doi: 10.1016/j.jvs.2006.09.060
- Maisel WH. Medical Device Regulation: An Introduction for the Practicing Physician. Ann Intern Med. 2004;140(4):296. doi: 10.7326/0003-4819-140-4-200402170-00012
- Schlierf R, Gortz M, Schmitz Rode T, et al. Pressure sensor capsule to control the treatment of abdominal aorta aneurisms. In: 13th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS). 2005;2:1656–1659. doi: 10.1109/SENSOR.2005.1497407
- Holik M, Kraus V, Granja C, et al. Influence of electromagnetic interference on the analog part of hybrid Pixel detectors. J Instrum. 2011;6(12):C12028–C12028. doi: 10.1088/1748-0221/6/12/C12028
- Pya Y, Maly J, Bekbossynova M, et al. First human use of a wireless coplanar energy transfer coupled with a continuous-flow left ventricular assist device. J Heart Lung Transplant. 2019;38(4):339–343. doi: 10.1016/j.healun.2019.01.1316 EDN: WHXUHN
- Barbato E, Noc M, Baumbach A, et al. Mapping interventional cardiology in Europe: the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) Atlas Project. Eur Heart J. 2020;41(27):2579–2588. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa475 EDN: WFCSGT
- Semenov VYu, Kovalenko OA. Changes in the number of coronary bypass surgery in some regions of the Russian Federation in 2019–2021. Complex Issues of Cardiovascular Diseases. 2024;13(3):83–91. doi: 10.17802/2306-1278-2024-13-3-83-91 EDN: CCAAVL
- Kuznetsova IE, Tsereteli NV, Sukhorukov OE, Asadov DA. Percutaneous coronary interventions with drug-eluting stents: past, present, and future (review of the literature). Int J Interv Cardioangiology. 2013;32:45–50. EDN: QCPXOT
- Shames DV. Risk factors for restenosis of coronary arteries after emergency or elective stenting. Vestn Sovr Klin Med. 2019;12(4):116–123. doi: 10.20969/VSKM.2019.12(4).116-123
- Oyunbaatar N-E, Shanmugasundaram A, Lee D-W, et al. Development of a Flexible and Stretchable Wireless Pressure Sensor-Integrated Smart Stent for Continuous Monitoring of Cardiovascular Function. 2023. Preprint (Version 1) available at Research Square. doi: 10.21203/rs.3.rs-2801499/v1
- Kozlov BN, Panfilov DS. Aortic dissection: epidemiology, etiopathogenesis, diagnostics. Tomsk: SibGMU Publishing House; 2021. 101 p. (In Russ)
- Loschi D, Santoro A, Rinaldi E, et al. A systematic review of open, hybrid, and endovascular repair of aberrant subclavian artery and Kommerell's diverticulum treatment. J Vasc Surg. 2023;77(2):642–649.e4. doi: 10.1016/j.jvs.2022.07.010 EDN: SIQFJG
- Svetlikov AV. the history of the world''s first stent graft invention. The role of professor Volodos. Masks thrown off. Russian journal of endovascular surgery. 2017;4(4):268–278. EDN: USAKJV doi: 10.24183/2409-4080-2017-4-4-268-278
- Rao KS, Samyuktha W, Vardhan DV, et al. Design and sensitivity analysis of capacitive MEMS pressure sensor for blood pressure measurement. Microsyst Technol. 2020;26(8):2371–2379. doi: 10.1007/s00542-020-04777-x EDN: HSKGNI
- Wu X, Zhao Y, Tang C, et al. Re-Endothelialization Study on Endovascular Stents Seeded by Endothelial Cells through Up- or Downregulation of VEGF. ACS Appl Mater Interfaces. 2016;8(11):7578–7589. doi: 10.1021/acsami.6b00152
- Musick KM, Coffey AC, Irazoqui PP. Sensor to detect endothelialization on an active coronary stent. Biomed Eng Online. 2010;9(1):67. doi: 10.1186/1475-925X-9-67
- Sarsam S, Kaspar G, David S, et al. Early Detection of Subclinical Aortic Valve Endocarditis with the CardioMEMS Heart Failure System. Am J Case Rep. 2017;18:665–668. doi: 10.12659/ajcr.903071
- Springer F, Günther RW, Schmitz-Rode T. Aneurysm Sac Pressure Measurement with Minimally Invasive Implantable Pressure Sensors: An Alternative to Current Surveillance Regimes after EVAR? Cardiovasc Intervent Radiol. 2008;31(3):460–467. doi: 10.1007/s00270-007-9245-9 EDN: UZAJPI
- Sandhu AT, Goldhaber-Fiebert JD, Owens DK, et al. Cost-Effectiveness of Implantable Pulmonary Artery Pressure Monitoring in Chronic Heart Failure. JACC Heart Fail. 2016;4(5):368–375. doi: 10.1016/j.jchf.2015.12.015
- Veenis JF, Manintveld OC, Constantinescu AA, et al. Design and rationale of haemodynamic guidance with CardioMEMS in patients with a left ventricular assist device: the HEMO-VAD pilot study. ESC Heart Fail. 2019;6(1):194–201. doi: 10.1002/ehf2.12392
Supplementary files