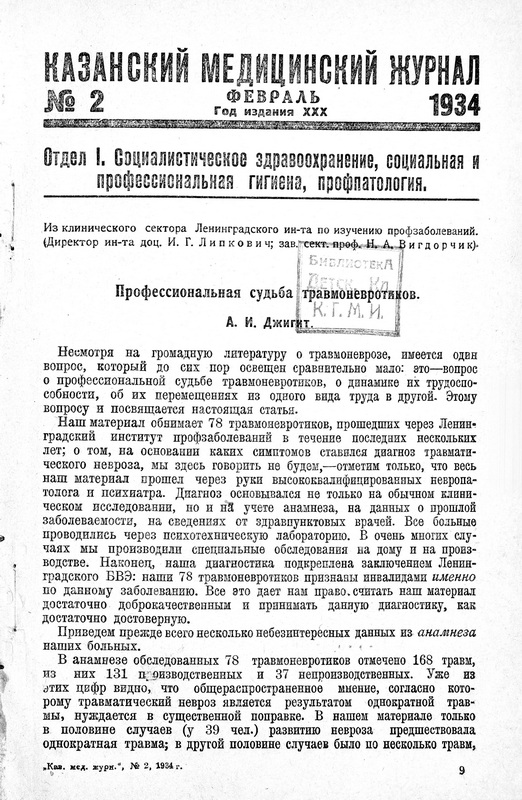To the problem of peptic ulcer disease and duodenum
- Authors: Luria R.A.1
-
Affiliations:
- First Therapy Clinic of the Central Institute of Internal Medicine (Botkin Hospital in Moscow)
- Issue: Vol 30, No 2 (1934)
- Pages: 241-251
- Section: Articles
- Submitted: 18.06.2021
- Accepted: 18.06.2021
- Published: 14.02.1934
- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/71712
- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj71712
- ID: 71712
Cite item
Full Text
Abstract
In spite of the fact that exactly one hundred years have passed since Cruveilhier described with inimitable for those times clarity the clinical picture and anatomical substrate of peptic ulcer, the interest to this mysterious disease not only has not weakened, but has considerably revived in recent years. Therapists and surgeons, pathophysiologists and radiologists are equally interested in the problem of peptic ulcer and compete in solving two main, closely related problems - the question of pathogenesis and the question of rational treatment of peptic ulcers.
Full Text
Несмотря на то, что прошло ровно сто лет с тех пор, как Cruveilhier (Крювелье), с неподражаемой для того времени четкостью описал клиническую картину и анатомический субстрат язвы желудка, интерес к этой загадочной болезни не только не ослабел, но в значительной мере оживился за последние годы. Терапевты и хирурги, патофизиологи и рентгенологи одинаково заинтересованы в проблеме язвы желудка и соревнуются в разрешении двух основных, теснейшим образом связанных между собою задач,—вопроса о патогенезе и вопроса о рациональном лечении пептических язв. Интерес исследователей поддерживается, во-первых, тем местом, которое занимает язва среди других заболеваний пищеварительного аппарата, ее социальным значением. Даже если не говорить о непосредственной опасности для жизни при желудочных кровотечениях и перфорации, язва надолго отрывает больного от производства и, во всяком случае, настолько лишает его радости жизни, что больной легко решается на самое радикальное в его глазах лечение—на хирургическое, которое, однако, часто также не избавляет его от страданий. При современном состоянии учения о язве желудка, когда отграничить ее от других заболеваний его, главным образом, от язвенного и неязвенного пилородуоденита (Antrumgastirtis) не легко и требует сложного клинического изучения, трудно определить в цифровых показателях частоту язвы желудка. Если же вспомнить, что по данным ЦУССТРАХА на 100 застрахованных приходится в среднем 24,89 случаев заболеваний и 185,4 дня нетрудоспособности по болезням пищеварения, то, вне всякого сомнения, среди этих больных язвенные больные занимают очень видное место или сами по себе, или как следствие других болезней желудка. Таким образом, в интересах здравоохранения и социальной помощи, проблема язвы желудка является исключительно актуальной для практического врача.
Интерес исследователей, во вторых, поддерживается тем, что, несмотря на усилия целой плеяды ученых, несмотря па бесчисленные работы представителей различных дисциплин, несмотря, наконец, на успехи техники, особенно рентгеновского исследования и брюшной хирургии,—не решены основные проблемы патогенеза и терапии язвы.
Интерес исследователей, в-третьих, поддерживается тем, что новые успехи техники и эксперимента, и новые пути мышления обещают внести ясность в тот туман, которым покрыта эта загадочная болезнь, и о которой уже сто лет тому назад Cruveilhier, говорил, „L‘liistoire des causes est enveloppé d‘une obscurité profonde".
Вот почему дискуссия о язве не сходит со страниц медицинской печати, вот почему язва была программным докладом целого ряда с'ездов и терапевтов и хирургов, начиная с 1-го с‘езда терапевтов в 1909 г., кончая недавно, съездом хирургов Украины и 4-ой конференцией врачей Московской области
Мы остановимся здесь только на важнейших вопросах проблемы язвы:
Учение о язве за сто лет своего существования пережило ряд этапов, теснейшим образом связанных с эволюцией медицинского мышления в разные эпохи. В другом месте мы подробнее остановились на эволюции учения о язве1) и потому я ограничусь только перечислением главнейших этапов ее истории. Их было всего пять.
Первый этап—анатомо-морфологический. Cruveilhier,Rokitanskу, Virchow, Aschoff, К. Н. Bauer, Hart, Hauser—и мног. друг. дали исчерпывающие описания субстрата круглой язвы желудка и, исходя из морфологических ее особенностей, пытались разрешать вопросы ее патогенеза с точки зрения чисто локалистической и механической.
Второй этап—экспериментальный. Claude Bernard, Pavу, Quincke, Riegel, Leube—и мног. друг, фиксировали внимание на активном кислом желудочном соке и тесно связали язву с пептическими свойствами этого сока. Бесчисленные экспериментаторы пытались получить язву желудка у животных, но попытки эти, как правило, были безуспешны. Так обстоял вопрос до самого начала XX века.
Третий этап возник в начале текущего столетия в результате огромных успехов брюшной хирургии с одной стороны и рентгеновского метода—с другой. Язва желудка становится предметом изучения не только анатомов, экспериментаторов и терапевтов, но и хирургов. Moynihan, Mayo, Bier первые описывают в 1911 году и 1912 г. язвы duodeni, как очень частое заболевание, почему-то просмотренное до сих пор и не распознававшееся терапевтами. Язва перешла границы желудка и все, что может подвергаться действию пептического сока,—безразлично, будет ли это в желудке, в 12-перстной кишке, в нижней части пищевода, jejunum, объединяется единым представлением, создается ens morbi.
С другой стороны, в результате новых идей о вегетативной и эндокринной системе, как носителей concensus partium, возникает представление о целостности организма, начинают колебаться устои солидарной патологии и Bergmann создает свое учение о нервно-спастическом компоненте патогенеза этого eus morbi. Этот третий этап можно с правом назвать носологическим, ибо он объединил разрозненные до сих пор представления о язве, в зависимости от ее локализации, и создал подход к новым представлениям о ней, не только как о местном заболевании органа, но как о заболевании всего организма.
Четвертый этап учения о язве является результатом дальнейшей эволюции медицины от локалистической к антропопатологической. Организм рассматривается как единое психофизическое целое. Не только вегетативная нервная система и эндокринный аппарат являются носителями concensus partium, выясняется огромная роль физико-химических процессов, дающих те или иные уклонения в обмене веществ, в результате чего изменяется качество среды, в которой живут отдельные органы, ткани и клетки, и которые являются причиной функциональных отклонений их. Учение о конституции стремится определить гепотонические предпосылки дисгармонии отдельных систем. Под влиянием этих идей создается представление о язвенной болезни, как об особом диатезе (Balint, Strauss, Зимницкий и друг.) и как будто отодвигаются на задний план местные процессы, возникающие в самом больном органе.
И, наконец, в наши дни наступает пятый этап учения о язвенной болезни—этап синтетический. Функциональная патология, являющаяся в свою очередь синтезом морфологических изменений органа и функциональных его расстройств, не отделяет больше органа от всего организма и рассматривает каждый патологический процесс в аспекте и целостности организма, и целостности самого органа со всеми гено—паратипическими условиями возникновения заболевания. Отсюда, с одной стороны, попытки установить связь между язвой и морфологическими изменениями слизистой желудка, воспалительными процессами в ней. Konjetznyn его ученики устанавливают роль язвенного гастрита в происхождении и течении язвы желудка, возникает учение об Ulcusgastritis, противопоставляется antrumgastritis гастритам остальных отделов желудка, с другой стороны, объединяются двигательные и секреторные расстройства желудка в понимании происхождения клинических проявлений и течения язвы, начинают говорить о гиперэргическом желудке, не только с точки зрения грубоанатомических изменений, но как о функциональном качестве желудка (Westрhаl), разрушаются прочные перегородки между отдельным заболеваниями желудка—функциональными, воспалительными и язвенными, созданные чисто морфологическим мышлением. Идеи функциональной патологии ведут к синтетическому пониманию желудочных заболеваний как гастропатии (Лурия). Наконец, все больше и больше выясняются связь и взаимоотношения патологических процессов, возникающих в желудке, с вегетативной и центральной нервной системой.
Опыты Зильбермана и Büchner‘a устанавливают теснейшую связь между раздражением вегетативной системы и секрецией активного сока, вызывающего некроз поверхностных слоев слизистой, с реактивным гастритом и подводят новую базу под учение Bergmann’a о роли вегетативной системы в генезе язвы, как результате спастических процессов в muscuiaris желудка. Все больше и больше выясняется значение вегетативной системы в моторике пилорической части желудка и duodenum. Опыты Wittkower’a и Cramer’а, экспериментальные исследования Westphal'я углубляют роль психики в возникновении спастических процессов слизистой желудка, как паренхиматозного органа, обладающего, повидимому, большой функциональной лабильностью. С другой стороны, ряд клинических наблюдений учит, что язвы желудка, весьма близки по своему характеру и локализации к пептическим, возникают при патологических процессах в центральной нервной системе. Старые наблюдения Full и Friedrich о трофических язвах желудка при tabes‘e, без специфических гуммозных поражений желудка, получают новое освещение в работах Сushing‘а, Бурденко, Могильницкого, видевших появление типичных язв желудка при поражениях определенных участков центральной нервной системы опухолями.
Наконец, старые экспериментальные наблюдения Westphal'я, Вeneke, Grundelfinger‘a, Hart‘a и мног. друг, о появлении язв желудка при перерезке блуждающего нерва, экстирпации солнечного ганглия, в результате повреждения иннервирующего желудок аппарата, рисуются в совершенно новом свете после систематических опытов Сперанского и его сотрудников Пигалева, Скобло, Галкина и друг., выяснивших закономерность появления язв, типичных по локализации на малой кривизне и в пилорической части желудка, при раздражении любого участка нервной системы—вегетативной, периферической и центральной и появляющихся в условиях эксперимента также, как закономерно появляются при этом типичные кератиты. Оказалось, что речь идет не о повреждении данного иннервирующего желудок нерва (vagus, ganglion coeliacum) о перестройке весьма сложных сочетаний и комбинаций всей нервной системы, как единого органа трофики, как начала, организующего как физиологические, так и патологические процессы всего организма, всех его тканей и органов.
Нет никакого сомнения в том, что клинические исследования Сперанского и его сотрудников поднимают на новую ступень учение о язве желудка на последнем синтетическом этапе ее, так как именно такое представление гармонирует целиком с ежедневным опытом врача о роли психо-нервной системы в происхождении, течении и исходах язвенной болезни у конституционально предрасположенных к ней лиц.
Эволюция учения о язвенной болезни не могла, разумеется, не отразиться на наших представлениях о клинической картине заболевания, на классификации клинических форм язвы, на распознавании ее и, наконец, на исканиях рациональной терапии язвы желудка.
Я остановлюсь вкратце только на важнейших постулатах современного понимания язвы, желудка, когда дело идет о диагностике и терапии ее.
В интересах ежедневной практической работы врача мы предлагаем следующую классификацию многочисленных и весьма разнообразных форм язвенной болезни.
I. По локализации: а) язвы желудка—малой кривизны и кардиальные; б) язвы пилорической части желудка; в) язвы двенадцатиперстной кишки; г) пептические язвы тонких кишек; д) пептические язвы пищевода.
II. По течению, а) скрытые язвы (бессимптомные); б) острые флоридные, свежие язвы; в) хронические язвы желудка, каллезные язвы; г) осложненные язвы: 1) воспалительными процессами, перигастритами, воспалительными опухолями, 2) кровоточащие язвы, 3) перфорирующие язвы, 4) раковоперерожденные язвы.
III. Послеязвенные процессы: а) двуполостной желудок, б) сужение привратника, г) расширение желудка.
IV. Зажившие язвы (после лечения).
V. Оперированные язвы.
Само собой разумеется, что каждая из этих форм язвы представляет собою только текущий момент сложного биологического процесса, весьма динамичного по самому существу своему, почему распознавание язвенной болезни в каждом отдельном случае и представляет часто большие и даже иногда непреодолимые трудности. Современное понимание язвы объясняет эту динамичность процесса наличием не одной, а нескольких язв одновременно, хотя и в типичных для локализации их местах, но в весьма различных стадиях развития процесса, начиная с поверхностной эрозии до пенетрирования и фибропластического процесса с деформацией органа включительно.
В отношении распознавания отдельных форм, нас значительно меньше, чем прежде, интересует кислотность желудочного сока, а значительно больше—увеличение количества самого секрета, как выражение гиперэргического состояния желудка. Гораздо больше, чем до сих пор, мы фиксируем наше внимание на моторных расстройствах. И анамнез больного, и особенно рентгеновское исследование учит, что, если нарушение секреции играет большую роль в генезисе язвы, то расстройству моторных функций—перистолы, перистальтики и эвакуации—больной обязан больше всего своими страданиями, почему симптоматическая терапия (атропин, папаверин, октин) и облегчает так боли язвенного больного.
Анамнез и методический анализ субъективных жалоб больного, его внутренняя картина болезни, как я предпочитаю называть status subjectivus больного, изучаемые динамически, играют, несомненно, гораздо большую роль, чем, например, частое и тщательное изучение кислотности, травматизирующее больного. Если нервная трофика играет действительно существенную роль в происхождении язвы желудка, то, разумеется, необходимо уделять величайшее внимание изучению психонервных травм в прошлом больного, и мой клинический опыт учит, что, на самом деле, у определенной группы больных язвой, по преимуществу с локализацией ее по ту и другую сторону привратника, эти психонервные травмы играли решающую роль в течении и в рецидивах язвы. Это—больные, большей частью стигматизированные в смысле Бергмана, с дистонией вегетативной и эндокринной системой, невропаты, с весьма лабильной психикой. Практически важно бережно относиться к этим больным и при исследовании врачей внутренней картины болезни, и при назначении исследований, особенно в лаборатории, и в рентгеновском кабинете. На конкретный дефект слизистой в duodenum здесь легко наслаиваются психонервные рездражения, вызывающие спазмы привратника, значительно ухудшающие состояние больного. Тщательно собранный анамнез, изучение динамики процесса так, как оно отражалось на психике больного, часто решает вопрос и по форме и о локализации язвы.
Отдельно стоит вопрос о соотношении язвы, и гастрита в клинике язвенной болезни. Нет никаких сомнений в том, что если гастрит не во всех случаях является причиной язвы и предшествует ей, то, если позволено будет так выразиться, клиническая физиономия язвенного больного тесно связана с его гастритом. Я припоминаю случай, когда инженер, страдавший 8 лет т. н. типичной язвой желудка, не дававшей ему с тех пор никаких ощущений, на мешавшей питаться какой угодно пищей, поступил в клинику вскоре после того, как весною попал при аварии в холодную воду. Он испытывал те же боли, что и при язве восемь лет тому назад, но уже десяти дней пребывания в клинике было достаточно, чтобы все эти жалобы исчезли, у него найден был типичный antrumgastritis, очевидно, вспыхнувшей после охлаждения тела во время аварии. В целом ряде случаев у больных с типичными для язвы симптомами, до рвоты и кровавой рвоты включительно, рентгеновское исследование и оперативное вмешательство не дают язвы желудка или нередко открывают следы зажившей язвы, большей частью в duodenum. Вот почему, практически важно помнить о теснейшей связи и незаметных переходах, имеющихся между гастритом и язвой и установленных теперь целым рядом авторов и клиническими, и рентгенологическими, и гастроскопическими наблюдениями (Norpoth, Дайховский и др.). Вот почему, в ряде случаев точный диагноз гастрита или язвы является часто схоластической постановкой вопроса.
С другой стороны, новейшее исследование Westphal'я 1) показали, что среди больных, направлявшихся в его клинику с типичнейшей картиной язвы желудка, при методическом исследовании их секреции, испражнений на скрытую кровь и тщательнейшем современном рентгеновском анализе, оказалась довольно большая группа, не имевшая язвы желудка, несмотря на то, что клиническая картина болезни была, как будто, совершенно идентичной с язвой. Эти случаи Westphal и выделяет как раздраженный желудок—Reizmagen и считает, что таких случаев очень много и что они являются часто тем, что принято считать неврозами желудка,—диагноз, против которого так возражает Бергман, считая его беспредметным и симулирующим органические поражения желудка. Я полагаю, что Reizmagen Westphal’я целиком входит как интегральная часть нашего представления о гастропатии, объединяющей различные фазы страданий одного и того же желудка, что мы вправе у больного с Reizmagen ожидать появления гастрита и язвы в будущем, а у больного язвой останется тот же Reizmagen в определенной стадии заживления язвы и регенерации сопутствующего ей гастрита. Учение о Reizmagen и о гастропатии ставит нас в необходимость углублять рентгеновское исследование с современной методикой изучения рельефа и целевыми снимками, с детализацией топической диагностики, с динамическими повторными исследованиями больного. Kalk полагает, что в 95% всех язв рентгеновское исследование решает вопрос о язве, и наличие прямых рентгеновских симптомов, даже при отсутствии клинических данных, дает основание для диагноза; Kalk считает, что рентгеновское исследование в известном отношении дает дальше больше, чем лапаратомия и что, при отсутствии рентгеновских данных, следует воздержаться от распознавания язвы. При правильном, требующем большой эрудиции и техники рентгеновском анализе,—это, разумеется, так, но до последнего времени мы, несомненно, часто имеем большие расхождения между результатом рентгеновского исследования и клинической картиной язвы потому, во-первых, что рентгенолог часто пренебрегает функциональными расстройствами моторики желудка, вегетативного и психонервного происхождения и во-вторых потому, что однократное рентгеновское исследование, решая вопрос морфологически („ниша“, „деформация bulbi“), еще не разрешает состояния гастропатии, так сказать текущего момента заболевания, состояния гастрита и функциональных расстройств, лежащих в основе страдания на сегодняшний день—об этом лучше всего говорят бессимптомные язвы с большими нишами. Вот почему, для диагноза и предсказания язвы, как учит опыт, необходимо синтетическое изучение заболевания, вот почему совершенно недопустим отрыв клинициста от рентгенолога и наоборот. Наличие ниши| решает вопрос о язве желудка, но, разумеется, не разрешает вопроса о язвенной болезни желудка, как особого диатеза, специфического состояния организма на данном этапе его существования. И мне кажется, что в перспективе рентгеновское исследование должно больше, чем до сих пор, углублять изучение гастропатии, безразлично, имеется-ли ниша и деформация желудка или нет—это было бы весьма существенным достижением для профилактики язвы у определенной категории больных.
Во всяком случае, без методического современного рентгеновского исследования диагностика язвы желудка остается всегда проблематической. Это обстоятельство имеет особенно большое значение потому, что и терапевты и хирурги, если только дело идет не о резекции желудка, учитывая результаты лечения, не всегда имеют в своем распоряжении строго документированный материал и нередко полученные ими результаты не означают еще, что дело шло о язве желудка.
Если современные представления о язве желудка требуют большой осторожности при постановке диагноза для отграничения ее от гастрита и гиперэргии желудка, то еще большая осторожность требуется при предсказании, особенно, если помнить, что дело идет не только о местном, но и об общем заболевании—о язвенной болезни. Особенно поучительны бессимптомные язвы. В последнее время мне особенно часто пришлось видеть профузные желудочные кровотечения, появляющиеся у лиц, никогда не страдавших не только язвенными, но гастритическими симптомами, между тем как рентгеновское исследование, которое (техника рельефа с введением минимальных доз контрастного вещества) делалось уже через несколько дней после кровотечения, давало ниши иногда даже весьма значительных размеров. Очевидно, не столько дефект ткани желудка, сколько сопутствующие ему гастритические явления и моторные расстройства определяют течение язвы; вот почему язвы, локализующиеся у отверстия—у привратника и кардии, дают максимум симптомов, язвы же малой кривизны так часто протекают скрыто.
Неразрешенная до сих пор проблема патогенеза язвенной болезни в значительной степени затрудняет предсказание и в таждом отдельной случае мы не можем с достаточной определенностью сказать, в каком соотношении находятся конституциональные факторы, обуславливающие диатез и паратипические причины рецидива—диэтетические погрешности, эндо—и экзогенная инфекция и психонервные раздражения. Можно разве только как весьма общее клиническое правило, допускающее, разумеется. много исключений, считать, что пилорические и доуденальные язвы дают, может быть, лучшее предсказание в смысле пенетрирования и профузного кровотечения, но худшее в смысле рецидивов.
Связанная с патогенезом проблема терапии язвы дает целый ряд весьма спорных вопросов. Она распадается на проблему профилактики язвы желудка, проблему лечения язвенной болезни, проблему консервативного и проблему хирургического лечения язвы. В значительном количестве случаев язва желудка заживает самостоятельно; об этом достаточно красноречиво говорят и типичные рубцы у лиц, никогда не лечившихся от язвы и результаты рентгеновского исследования, когда можно убедиться в наличии старых рубцов наряду с флоридными язвами. Все это в значительной степени затрудняет учет результатов лечения язвы и, с другой стороны, объясняет несомненный клинический факт, что к заживлению язвы ведут очень различные терапевтические методы.
Оставляя в стороне абсолютные показания к хирургическому вмешательству (прободение язвы, раковое перерождение, стеноз привратника скопическими наблюдениями (Norpoth, Дайховский и др.). Вот почему, в ряде случаев точный диагноз гастрита или язвы является часто схоластической постановкой вопроса.
С другой стороны, новейшее исследование Westphal’я 1) показали, что среди больных, направлявшихся в его клинику с типичнейшей картиной язвы желудка, при методическом исследовании их секреции, испражнений на скрытую кровь и тщательнейшем современном рентгеновском анализе, оказалась довольно большая группа, не имевшая язвы желудка, несмотря на то, что клиническая картина болезни была, как будто, совершенно идентичной с язвой. Эти случаи Westphal и выделяет как раздраженный желудок—Reizmagen и считает, что таких случаев очень много и что они являются часто тем, что принято считать неврозами желудка,—диагноз, против которого так возражает Бергман, считая его беспредметным и симулирующим органические поражения желудка. Я полагаю, что Reizmagen Westphal’я целиком входит как интегральная часть нашего представления о гастропатии, объединяющей различные фазы страданий одного и того же желудка, что мы вправе у больного с Reizmagen ожидать появления гастрита и язвы в будущем, а у больного язвой останется тот же Reizmagen в определенной стадии заживления язвы и регенерации сопутствующего ей гастрита. Учение о Reizmagen и о гастропатии ставит нас в необходимость углублять рентгеновское исследование с современной методикой изучения рельефа и целевыми снимками, с детализацией топической диагностики, с динамическими повторными исследованиями больного. Kalk полагает, что в 95% всех язв рентгеновское исследование решает вопрос о язве, и наличие прямых рентгеновских симптомов, даже при отсутствии клинических данных, дает основание для диагноза; Kalk считает, что рентгеновское исследование в известном отношении дает дальше больше, чем лапаратомия и что, при отсутствии рентгеновских данных, следует воздержаться от распознавания язвы. При правильном, требующем большой эрудиции и техники рентгеновском анализе,—это, разумеется, так, но до последнего времени мы, несомненно, часто имеем большие расхождения между результатом рентгеновского исследования и клинической картиной язвы потому, во-первых. что рентгенолог часто пренебрегает функциональными расстройствами моторики желудка, вегетативного и психонервного происхождения и во-вторых потому, что однократное рентгеновское исследование, решая вопрос морфологически („ниша“, „деформация bulbi“), еще не разрешает состояния гастропатии, так сказать текущего момента заболевания, состояния гастрита и функциональных расстройств, лежащих в основе страдания на сегодняшний день—об этом лучше всего говорят бессимптомные язвы с большими нишами. Вот почему, для диагноза и предсказания язвы, как учит опыт, необходимо синтетическое изучение заболевания, вот почему совершенно недопустим отрыв клинициста от рентгенолога и наоборот. Наличие нищ| решает вопрос о язве желудка, но, разумеется, не разрешает вопроса о язвенной болезни желудка, как особого диатеза, специфического состояния организма на данном этапе его существования. И мне кажется, что в перспективе ренттеновское исследование должно больше, чем до сих пор, углублять изучение гастропатии, безразлично, имеется-ли ниша и деформация желудка или нет—это было бы весьма существенным достижением для профилактики язвы у определенной категории больных.
Во всяком случае, без методического современного рентгеновского исследования диагностика язвы желудка остается всегда проблематической. Это обстоятельство имеет особенно большое значение потому, что и терапевты и хирурги, если только дело идет не о резекции желудка, учитывая результаты лечения, не всегда имеют в своем распоряжении строго документированный материал и нередко полученные ими результаты не означают еще, что дело шло о язве желудка.
Если современные представления о язве желудка требуют большой осторожности при постановке диагноза для отграничения ее от гастрита и гиперэргии желудка, то еще большая осторожность требуется при предсказании, особенно, если помнить, что дело идет не только о местном, но и об общем заболевании—о язвенной болезни. Особенно поучительны бессимптомные язвы. В последнее время мне особенно часто пришлось видеть профузные желудочные кровотечения, появляющиеся у лиц, никогда не страдавших не только язвенными, но гастритическими симптомами, между тем как рентгеновское исследование, которое (техника рельефа с введением минимальных доз контрастного вещества) делалось ужа через несколько дней после кровотечения, давало ниши иногда даже весьма значительных размеров. Очевидно, не столько дефект ткани желудка, сколько сопутствующие ему гастритические явления и моторные расстройства определяют течение язвы; вот почему язвы, локализующиеся у отверстия—у привратника и кардии, дают максимум симптомов, язвы же малой кривизны так часто протекают скрыто.
Неразрешенная до сих пор проблема патогенеза язвенной болезни в значительной степени затрудняет предсказание и в каждом отдельном случае мы не можем с достаточной определенностью сказать, в каком соотношении находятся конституциональные факторы, обуславливающие диатез и паратипические причины рецидива—диэтетические погрешности, эндо—и экзогенная инфекция и психонервные раздражения. Можно разве только как весьма общее клиническое правило, допускающее, разумеется, много исключений, считать, что пилорические и доуденальные язвы дают, может быть, лучшее предсказание в смысле пенетрирования и профузного кровотечения, но худшее в смысле рецидивов.
Связанная с патогенезом проблема терапии язвы дает целый ряд весьма спорных вопросов. Она распадается на проблему профилактики язвы желудка, проблему лечения язвенной болезни, проблему консервативного и проблему хирургического лечения язвы. В значительном количестве случаев язва желудка заживает самостоятельно; об этом достаточно красноречиво говорят и типичные рубцы у лиц, никогда не лечившихся от язвы и результаты рентгеновского исследования, когда можно убедиться в наличии старых рубцов наряду с флоридными язвами. Все это в значительной степени затрудняет учет результатов лечения язвы и, с другой стороны, объясняет несомненный клинический факт, что к заживлению язвы ведут очень различные терапевтические методы.
Оставляя в стороне абсолютные показания к хирургическому вмешательству (прободение язвы, раковое перерождение, стеноз привратника и т. п.), надо ответить на вопрос о радикальности хирургического вмешательства. Каждый клиницист хорошо знает, что имеется значительное число больных, перенесших одну или несколько операций по поводу язвы желудка, чаще гастро-энтеростомию, реже резекцию, которых хирургическое лечение не освободило от болей. Их меньше знают хирурги, чем терапевты, п. ч. такие больные, разочарованные результатами оперативного лечения, ищут вновь помощи в клинике внутренних болезней. Так, Moynihan утверждает, что после резекции едва ли встречаются рецидивы болей и язвы. Другие хирурги считали причиной рецидива болей, если нет ulcus pepticum jejuni, главным образом наличие спаек. Не говоря уже о том, что по данным Payr и Naegе1i после операций на желудке бывает от 78—91% спаек, что уже одно делает невероятным закономерную зависимость этих болей только от спаек, исследование последних лет показали, что наиболее частой причиной болей после операций на желудке надо считать гастритические процессы. За это говорят исследования специалистов по гастроскопии— Schindler’a, Korbsch’a, Hohlweg’a, Hübner’a, Henning’a, рентгенологов— Berg’a, Chaaul’a, Albrecht’a, Dyes’a и хирургов—Clairmont’a и особенно Koujetzny и Wanke. Этот гастрит является либо остатком воспалительных явлений, сопутствующих язве, либо возникает по невыясненому еще механизму уже после операций и представляет собою весьма упорное, мало поддающееся лечению заболевание (Morawitz, Henning). Вот почему, в целом ряде случаев хирургическое лечение может только условно считаться радикальным и больные должны во всяком случае после операции подвергаться систематическому консервативному лечению, что надо понимать как профилактическую терапию, значительно улучшающую отдаленные результаты хирургического вмешательства.
Консервативное лечение должно быть комплексным. Исходя из современных представлений о язве, как о местном процессе, возникающем в связи с целым рядом патологических изменений в вегетативной и эндокринной системе и, в особенности, с точки зрения влияния и роли нервной трофики на происхождение и течение язв, как учит Сперанский, нельзя ограничиться одной только щадящей диэтой по той или другой системе, или схеме диететического лечения. Наряду с щадящей и каждый раз индивидуальной диэтой, абсолютно необходим, по крайней мере в течение трех недель, физический и психонервный покой с постельным содержанием в первые десять дней; планомерное применение тепла в виде припарок так, как их рекомендовал еще Leubе, и составляет комплексное консервативное лечение. На 140 больных язвой, где рентгеновское исследование установило нишу, я получил в 108 случаях непосредственное улучшение, применяя стационарно обычную терапию. Из этих больных в 31 случае исчезла ниша. Мы должны в значительной мере изменить наши представления о том, что ниша, особенно глубокая, не подлежит консервативному лечению и больной должен быть оперирован. Из целого ряда моих случаев, я остановлюсь для иллюстрации только на одном.
Б-ной С., 43 лет, рабочий-медик, истор. бол. № 12208, поступил в клинику 1|ХII 33. Болен 9 лет периодически появляющимися болями в подложечной области через 20—30 минут после еды, изжогой, рвотой. Явления эти продолжаются обычно 2—3 месяца и исчезают, чтобы через 6—7 месяцев появиться вновь. Аппетит всегда хороший, за последние две недели сильные боли в подложечной области, отдающие в грудную клетку после еды, частая рвота. При исследовании значительная болезненность в подложечной области справа от средней линии при ощупывании и при поколачивании, мышечное напряжение здесь же. Фракционное исследование желудочного содержимого обнаруживает небольшую subaciditas, neutralrot выделился через 35 минут, секреция на повышение. В испражнениях скрытая кровь при повторном исследовании—отсутствует. Рентгеновское исследование 6/ХII,—желудок вытянутый—крючек с хорошо выраженными складками, также проецирующимися вытянутыми; в верхней трети малой кривизны проэцируется большой Ulcuskrater, резко болезненный. Рентгеновский диагноз—Ulcus ventriculi profundum (penetrans) (см. рентгенограмму № 1).
Рис. 1
29/XII. 33. Самочувствие больного хорошее, субъективных жалоб нет, небольшая только болезненность в подложечной области при глубоком надавливании.
Рентгеновское исследование: резкое уменьшение калибра язвенного кратера, болезненности в области ниши нет, межуточный слой небольшой, перистальтика умеренная, складки слизистой еще раздражены. Рентгенологический диагноз: Uleus ventriculi curvaturae minoris в стадии заживления (см. рентгенограмму № 2).
Рис. 2
20/1 34 г. Самочувствие больного остается хорошим. Рентгеновское исследование— явлений ниши не обнаружено; желудок глубоко перистальтирует, отмечается замытость складок желудочным слоем и их раздраженность в области бывшей ниши, болезненности не отмечается (см. рентгенограмму № 3).
Рис. 3
Таким образом, ниша огромных размеров, которую мы еще так недавно должны были считать подлежащей безусловно хирургическому лечению с резекцией желудка, исчезла под влиянием одного консервативного лечения и остались только явления гастрита и раздраженный желудок, т. е. определенная стадия гастропатии.
Как видно из прилагаемых рентгенограмм—огромная пенетрирущая ниша зажила в этом случае совершенно бесследно. Этот случай является лучшим обоснованием того, что консервативное лечение должно сопровождаться динамическим рентгеновским контролем, который и решит в последнем счете вопрос, можно-ли ограничиться консервативным лечением или больной подлежит оперативному вмешательству.
За последнее время предложен ряд вспомогательных методов к этой классической консервативной терапии язв. Сюда относится лечение диатермией нижних отделов шеи (Грот и Егоров), новые предложения советских авторов (Югенбург, Голонзко и друг.), рентгенотерапия язв. Я не имею еще хорошо и стационарно лично прослеженных случаев рентгенотерапии, но, разумеется, и здесь для суждения о результатах надо требовать не только субъективного улучшения, но объективных данных рентгеноскопии. Трудно сказать, каким образом действует рентгене- терапия и на что она действует, и не лишено вероятия, что дело идет здесь о перестройке всего организма, в результате чего получается улучшение и местного процесса и, может быть, не столько язвы, сколько сопутствующего гастрита.
В отношении диатермии шеи у меня в клинике д-рами Соловей и Любимовым были сделаны наблюдения на 100 больных. Выяснилось, что диатермия шеи весьма благоприятно влияет на самочувствие больных и на боли при язве, при чем больше при язвах пилорической части и duodeni, чем при язвах малой кривизны желудка, но особенно хорошо у невропатических больных. Это дает еще одно доказательство в пользу клинических наблюдений об особенностях, характеризующих больных пилорическими формами язвы; ни на секрецию, ни на морфологические признаки язвы диатермия шеи не влияет. Любопытно, что после 7—8 сеансов, как правило, наступает ухудшение и требуется довольно продолжительный период прежде, чем приступить к новому туру лечения диатермией нижних отделов шеи.
Из новых медикаментозных средств упомяну только о solvacid’e—препарате, содержащем желчь и дериваты глюкохолевой кислоты и об octin’e. Solvacid с успехом применялся в клинике Вier’а его ассистентом Thom, я личного опыта в этой терапии не имею. Лечение octin’ом на 30 больных применялось в моей клинике д-ром Шевлягиной и я целиком присоединяюсь к мнению Umber’а и других авторов о превосходных спазмолитических свойствах этого препарата, в котором врач найдет большое подспорье в случаях, где больной не переносит атропина и его производных. Нашей химико-фармацевтической индустрии можно рекомендовать освоить приготовление octin’a.
За последнее время значительный сдвиг в консервативном лечении язвы представляет применение новокаинового блока. Положив в основание концепцию Сперанского о роли нервной трофики в патогенезе язв,—концепцию, которая, как мы видели, проливает новый свет не только на происхождение, но и на сущность самой язвы, как дистрофии желудка, А. В. Вишневский в 46 случаях получил, как правило, весьма стойкий эффект от лечения язвы новокавновым блоком 1). Наши личные наблюдения, пока еще немногочисленные, дают, несомненно, ободряющие результаты о применении блока при пептических язвах и будут опубликованы в свое время. Дальнейшие исследования покажут, идет ли здесь речь только о влиянии на местный процесс, т. е. только лишь о новом методе лечения язвы желудка или о первых подходах к лечению язвенной болезни, т. е. к разрешению основной проблемы лечения пептических язв и профилактики их. Имеются основания думать, что новая теория медицины, где нервная трофика является организатором физиологических процессов, а нарушение ее—причиной дистрофий, ведущих к появлению язвы на типичных для нее местах, что эта, новая теория положит начало не только пониманию сущности язвенной болезни, но откроет и новые пути терапии ее. Будущие исследования, для которых, как мы видели, имеется так много стимулов, должны ответить на этот вечно новый вопрос, в течение целых ста лет ожидающий своего разрешения.
1) Р. Лурия. Эволюция учения о язве желудка. Доклад на 4-ом съезде врачей Московской области. Клин. медицина, 1934 г.
1) К. Westphal, Walter und Werner Kuckuck. Dor Reizmagen. Zeitsshr. f. Klin. Med. Bd. 124 H 5—6.
1) К. Westphal, Walter und Werner Kuckuck. Dor Reizmagen. Zeitsehr. f. Klin. Med. Bd. 124 H 5—6.
1) А. В. Вишневский.— Нервная трофика в теории и практике медицины, сборник под редакц. Сперанского, стр. 15—22.
About the authors
R. A. Luria
First Therapy Clinic of the Central Institute of Internal Medicine (Botkin Hospital in Moscow)
Author for correspondence.
Email: info@eco-vector.com
Russian Federation
References
Supplementary files