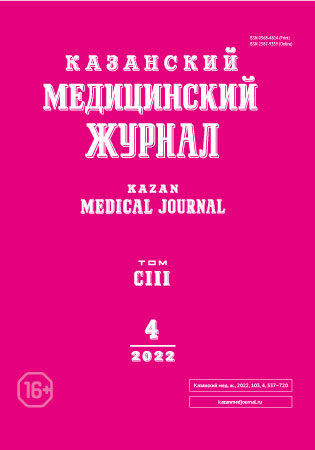Practical aspects of the organization of ethical review of clinical trials in the context of the COVID-19 pandemic
- Authors: Nezhmetdinova F.T.1, Guryleva M.E.2
-
Affiliations:
- Kazan State Agrarian University
- Kazan State Medical University
- Issue: Vol 103, No 4 (2022)
- Pages: 658-669
- Section: Reviews
- Submitted: 13.12.2021
- Accepted: 15.08.2022
- Published: 15.08.2022
- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/90281
- DOI: https://doi.org/10.17816/KMJ2022-658
- ID: 90281
Cite item
Full Text
Abstract
The COVID-19 pandemic has greatly affected all spheres of life, including biomedical research. The ethical regulation of clinical trials has a long history in international and domestic practice. An efficient infrastructure of international and national legislation has been created. At the same time, there are features of the organization of ethical review of clinical trials that arise under the restrictions associated with COVID-19. Healthcare of all countries is faced with the need to develop new approaches caused by the speed of the spread of the disease, its severe consequences for the life and health of people, the excessive burden on the medical worker, not only physical, but also psychological, including those associated with ethical problems. The purpose of this research was to study and analyze the experience of ethical review of clinical trials in the context of the COVID-19 epidemic, its regulatory framework in international and domestic practice. For high-quality and lawful conduct of clinical trials in Russia in the context of the COVID-19 epidemic, appropriate conditions were created, namely, a vertical base: the central ethical committee of the Ministry of Health of the Russian Federation — local ethical committees based in clinical institutions and research centers. They are provided with sufficient and high-quality legal support in the form of laws of the Russian Federation, country standards and by-laws. The work of local ethics committees is built in accordance with strict ethical international and domestic standards. Standard operating procedures implemented in local ethics committees provide for all the nuances of situations, including those implemented using modern telecommunication technologies and other end-to-end information technologies. Even if many restrictions are imposed, biomedical research must continue, and accordingly, it must be carried out under the strict control and monitoring of research ethics committees. The article presents an overview of legal sources, an analysis of the main approaches in domestic and foreign literature, taking into account historical retrospective.
Full Text
Регламентация клинических исследований (КИ) в Российской Федерации имеет недолгую историю по сравнению с международным опытом. Этические рекомендации для этой сферы человеческой деятельности были заложены Нюрнбергским кодексом (1947) [1] и Хельсинкской декларацией (1964) [2]. В 1938 г. США первыми в мире приняли закон о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах, согласно которому ни один лекарственный препарат не мог появиться в продаже без разрешения государственной структуры, отвечающей за качество продаваемых в стране пищевых продуктов и лекарств (Food and drug administration). С 60-х годов прошлого века разные страны стали принимать местные законы по исследованию и регистрации лекарственных средств (ЛС), например закон о фармацевтической деятельности в Японии (1961), Drug amendment act в США (1962) или Medicines act в Великобритании (1967), существенно отличающиеся друг от друга.
Унификация требований в этой сфере деятельности началась в 1996 г. с выходом первых гармонизированных правил качественной клинической практики (ICH GCP, Брюссель), в которых были изложены договорённости Европы, США и Японии по гармонизации законодательств в области КИ, устранению препятствий для регистрации импортных ЛС, удешевлению продукта для потребителя [3].
Затем система регуляции совершенствовалась через такие документы, как Типовой закон о защите прав и достоинства человека в биомедицинских исследованиях Межпарламентской ассамблеи Конфедерации независимых государств (Восточная Европа и Центральная Азия), 2004; Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека (ЮНЕСКО, 2005); Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по решению этических вопросов во время вспышек инфекционных заболеваний (2016) [4–6] и др. Нужно также отметить регуляторные инициативы, которые были проявлены в странах СНГ, например в Казахстане, Киргизстане, Белоруссии, а также Украине [7–12], для совершенствования местных регламентов.
Законодательная база в области КИ и регистрации ЛС в мире полностью сложилась к концу прошлого века, в Российской Федерации это произошло в 1998 г., когда наша страна присоединилась к программе ВОЗ по международному контролю ЛС. Справедливости ради нужно отметить, что внутренняя система фармаконадзора функционировавшая в СССР с 1969 по 1991 г. была, пожалуй, более строгой по данному вопросу, нежели существующая ныне [13].
Значимым аспектом формирования этико-правового сопровождения медико-биологических исследований стало создание системы этической экспертизы (ЭЭ) с участием этических комитетов (ЭК). Правовая основа для создания ЭК в нашей стране возникла в связи с принятием Федерального закона «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. №5487-1 (нормативный документ утратил силу), который заложил возможность создания многоуровневой их структуры.
Первые ЭК на уровне лечебных учреждений — локальные ЭК (ЛЭК) были созданы в середине 1990-х годов, а в 1998 г. начал функционировать Комитет по этике при Федеральном органе контроля качества ЛС, базировавшийся при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. В России ЭК пошли по пути принятия зарубежного опыта и выбрали европейскую модель ЭК, которые имеют общественный характер и обладают рекомендательными полномочиями [14].
В 1998 г. Минздрав утвердил отраслевой стандарт ОСТ №42-511-99 «Правила проведения качественных клинических испытаний в РФ» (нормативный документ утратил силу) — один из базовых документов, посвящённых КИ. Этот документ соответствовал международным правилам качественной клинической практики GCP, а его 4-й раздел был посвящён порядку работы ЭК. В 1998 г. вступил в силу закон «О лекарственных средствах», в котором были закреплены основные принципы КИ. Законом предусматривалось, что условием разрешения КИ, которое выдаёт Федеральный орган контроля качества ЛС, является положительное заключение комитета по этике при нём (ст. 37 ФЗ «О лекарственных средствах»). Таким образом, российское законодательство придаёт ЭЭ КИ ведомственный характер (центральный ЭК) и требует создания при учреждениях здравоохранения ЛЭК [14].
Рынок КИ в России стал бурно развиваться в начале 2000-х годов. Этому способствовали стабилизация экономической обстановки в РФ и мировой тренд переноса КИ из развитых в развивающиеся страны, что потребовало и развития института ЭЭ. Хотя фармакологическая наука начала активно развиваться ещё в Российской Империи, затем во времена СССР правительство ей также уделяло большое внимание, благодаря чему в современной России высокий уровень подготовки специалистов, проводящих КИ, но система ЭЭ не была присуща национальной культуре и пришла к нам с Запада вместе с международными многоцентровыми КИ (ММКИ), имеющими жёсткую регламентацию.
В 2005 г. был принят ГОСТ Р 52379-2005 от 27.09.2005 «Надлежащая клиническая практика» [15], действующий и сегодня, который является этическим и научным стандартом планирования и проведения исследований с участием человека в качестве субъекта, а также документального оформления и представления результатов таких исследований. Соблюдение указанного стандарта служит для общества гарантией того, что права, безопасность и благополучие субъектов исследования защищены, согласуются с принципами, заложенными Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации [2], а также что данные, полученные в КИ, достоверны. По содержанию этот документ очень близок к международному стандарту Good Clinical Practice (ICH GCP) [3].
Медицинские центры, заинтересованные в проведении ММКИ, начали создавать ЛЭК, иногда инициаторами их создания были фармацевтические компании, проводившие КИ в России и заинтересованные в создании условий, соответствовавших международным правилам качественной клинической практики. Сегодня эти этические структуры есть во всех крупных исследовательских центрах, где проводят биомедицинские исследования.
Необходимо отметить, что на механизм ЭЭ особое влияние оказало появление науки биоэтики [16]. Современная медицинская практика столкнулась с необходимостью решения вопросов, затрагивающих пределы человеческого существования:
– кем и на основании чего может быть прервана человеческая жизнь (отключение поддерживающей жизнь аппаратуры, пассивная и активная эвтаназия, аборт);
– как регулировать индустрию пересадки органов, когда существует рынок и спрос превышает предложение;
– каковы пределы новых репродуктивных технологий (искусственное оплодотворение, «суррогатное» материнство, клонирование);
– реализация принципа социальной справедливости при ограниченных ресурсах;
– целый блок вопросов, касающийся взаимоотношений врача и пациента, когда возникают противоречия между нормами и принципами классической медицинской этики и правами пациента на автономию, информацию, согласие и отказ от медицинского вмешательства, и многое другое.
Следует также подчеркнуть, что повышенное внимание к здоровью человека стало следствием демократического движения за права человека и гарантии этих прав в цивилизованном обществе. Право на здоровье рассматривают как неотъемлемое право личности. И на основании того, как общество предоставляет возможность его реализовывать, можно говорить о степени его демократичности и степени социальной защищённости граждан.
Всё это привело к появлению нового научного знания — биоэтики, — которое сегодня состоялось не только как наука, предмет которой — определение критерия нравственного отношения к живому, но и как мировоззрение и общественное движение. Возникновение биоэтики привело, в свою очередь, к формированию отдельной отрасли права (медицинского права) и развитию биомедицинской этики. Нужно подчеркнуть, что многие принципы регулирования ЭЭ появились благодаря биоэтике. Особая её роль и влияние на медицинскую практику и исследования проявились в условиях пандемии COVID-19 [17].
В основе ЭЭ КИ лежат три принципа: уважение к личности и правам пациента, преобладание пользы над риском и минимизация риска, правильный отбор пациентов для участия в исследовании. Первое и наиболее важное право человека, участвующего в научном исследовании, — добровольное информированное согласие, которое закреплено статьёй 21 Конституции РФ, все принципы находят отражение в ныне действующих Федеральных законах №323-Ф3 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [18] и №61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств» [19].
В Российской Федерации, помимо центрального и локальных, работают ЭК федерального уровня, например Комитет по биоэтике МЗ РФ, Комитет при Российской академии медицинских наук, Национальный этический комитет Российской медицинской ассоциации, Комитет по этике при Федеральном органе контроля качества, Независимый междисциплинарный комитет по этической экспертизе клинических исследований, Российский комитет по биоэтике при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и др.
В Республике Татарстан (РТ), субъекте Российской Федерации, 18 июня 1998 г. был принят Закон «Об охране здоровья граждан», где в статье 14 говорилось о возможности создания комитета (комиссии) по вопросам этики в системе здравоохранения (нормативный документ утратил силу). Приказом Минздрава РТ в ноябре 1997 г. была создана группа по разработке пакета документов, связанных с созданием ЭК, и разработаны следующие документы: «Примерное положение о порядке создания и деятельности комитетов (комиссий) по вопросам этики в системе здравоохранения Республики Татарстан» и «Положение о Республиканском комитете по вопросам этики в области охраны здоровья граждан».
В 1998 г. приказом ректора Казанского государственного медицинского университета был создан первый в РТ ЭК, которому в 2003 г. был предан статус республиканского. Целью создания такого комитета стало обеспечение действенной защиты прав, безопасности, благополучия и достоинства человека и отдельных групп населения в области охраны здоровья, при использовании современных достижений биологии, медицины, в системе практического здравоохранения, в условиях обязательного медицинского страхования и наличия рынка частных медицинских услуг. Таким образом, республиканский ЭК ставил перед собой более широкие задачи, нежели ЛЭК, и по своей сути объединял задачи и функции исследовательского и больничного комитета (обращаясь к опыту зарубежных стран), а также задачу объединения этических структур в республике, подготовки кадров для работы ЭЭ по стандартам GCP [14].
Современное состояние клинических испытаний в России и этическая экспертиза
После продолжительного периода «вакуума» в правовой регламентации ЭЭ и с принятием ст. 39.1. «Этическая экспертиза» ФЗ от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [19], а впоследствии ст. 36.1. «Особенности медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации» ФЗ-№323 РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. [18], а также выходом ряда подзаконных нормативно-правовых актов ситуация кардинально поменялась: ЭК стал обязательным на федеральном уровне при Минздраве РФ (МЗ РФ). Данная структура обладает регулятивно-разрешительными функциями при проведении клинических апробаций новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и КИ ЛС.
ЭК МЗ РФ действует для вынесения заключения об этической обоснованности либо этической необоснованности возможности применения методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи в рамках клинических апробаций методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и согласования протокола клинической апробации. Как уточняет приказ МЗ РФ от 29 ноября 2012 г. №986н «Об утверждении положения о Совете по этике» [20], ЭК МЗ РФ является постоянно действующим органом, состав его формируется из представителей медицинских, научных организаций, образовательных учреждений высшего профессионального образования, а также представителей общественных, религиозных организаций и средств массовой информации. В документе прописываются требования к квалификации и опыту работы по экспертной оценке научных, медицинских и этических аспектов КИ лекарственных препаратов (ЛП) для медицинского применения и порядок деятельности совета по этике.
Согласно подп. 7 п. 3 приложения №2 Приказа МЗ РФ от 10 июля 2015 г. №435н «Об Этическом комитете Министерства здравоохранения Российской Федерации» [21] при проведении экспертизы любого протокола ЭК должен получить полную информацию о задачах клинической апробации, медицинских вмешательствах, предполагаемом времени участия пациента в клинической апробации. Основные критерии рассмотрения протоколов клинических апробаций:
– обеспечение благополучия пациентов;
– соблюдение этических принципов;
– неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность личной информации о пациенте;
– право пациента получать информацию о результатах исследования;
– право пациента при оказании ему медицинской помощи в процессе клинического эксперимента получать необходимый уход;
– право пациента на отказ от участия в клинической апробации, которое не должно отразиться на оказании ему медицинской помощи.
Основные критерии при принятии экспертным советом решения о разрешении на оказание медицинской помощи при биомедицинских исследованиях:
– актуальность метода для здравоохранения, не исключая организационные, клинические и экономические стороны;
– новизна метода и/или отличие его от известных аналогичных методов;
– ожидаемая польза исследования;
– потенциальные риски применения метода для пациентов.
Также важный принцип работы ЭК и экспертного совета с целью защиты пациентов от возможных негативных последствий при оказании медицинской помощи в рамках клинических апробаций — недопущение конфликта интересов.
В приказе Минздрава России от 01.04.2016 №200н «Об утверждении правил надлежащей клинической практики» [22], заменившем приказ Минздрава РФ от 19 июня 2003 г. №266 «Об утверждении Правил клинической практики в Российской Федерации» [23], регламентируется работа ЛЭК. В нём даётся определение понятию: Независимый ЭК, созданный на уровне медицинской организации (ЛЭК) или региональном уровне, функционирует как независимый орган и обеспечивает защиту прав, безопасности и охрану здоровья участников КИ. Далее уточняется состав ЭК, куда должно входить достаточное количество лиц, обладающих необходимым опытом и квалификацией для экспертной оценки научных, медицинских и этических аспектов планируемого КИ, при этом интересы не менее чем одного лица должны лежать вне сферы науки.
Независимые ЭК осуществляют свою деятельность в соответствии с утверждаемыми ими стандартными операционными процедурами, содержащими требования, в том числе к составу и квалификации членов, сведения об учредителе, порядок организации проведения заседаний, рассмотрения документов и принятия по ним решений. ЭК рассматривает и принимает решение на основании:
– протокола КИ;
– брошюры исследователя;
– информационного листка пациента;
– сведений об опыте работы исследователей по соответствующим специальностям и их опыте работы по проведению КИ;
– сведений о медицинских организациях, в которых предполагается проведение КИ;
– сведений о предполагаемых сроках его проведения;
– договора обязательного страхования, заключённого в соответствии с типовыми правилами обязательного страхования, с указанием предельной численности пациентов, участвующих в КИ.
Клинические исследования в мире
Сегодня в мире зарегистрировано 397 676 научных исследований, среди регионов с большим числом КИ лидируют Северная Америка, Европа и Восточная Азия. На территории РФ проводится 5804 КИ [24]. По данным российского CRO Atlant Clinical, рынок КИ в РФ составляет около 1 млрд долларов США в год. [25]. По данным журнала VADEMECUM, за 2016 г. на миллион человек населения в РФ проводилось 3,5 КИ в год, в то же время во Франции — 57 КИ в год на миллион человек, в США — 55, в Великобритании — 38,9, в Германии — 30,6, в Польше — 10 [26]. Ожидается, что к 2025 г. мировой рынок КИ превысит 65 млрд долларов США [27].
Клинические исследования в России
Начиная с 2004 г., Россия активно включилась в ММКИ. Мы с гордостью можем отметить, что Казанский государственный медицинский университет входит в двадцатку наиболее задействованных в ММКИ исследовательских центров на территории России (4-й в 2015 г., 3-й в 2016 и 2017 г., 5-й в 2018 г. и 18-й по итогам 2019 г.). Даже в ковидном 2020 г. РТ демонстрирует рост числа новых ММКИ (101 в 2020 г. против 71 в 2019 г., прирост 42%), а ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» (г. Казань) занимает 11-е место в ТОП-20 медицинских организаций по активности участия в ММКИ, разрешённых в 2020 г. [28].
Почти за два десятка лет были периоды взлёта и падений, но можно констатировать, что количество КИ в целом стабильно, и в последнем отчётном году (2020) в России их общее число составило 5804 [27] и 734 вновь начатых. Из них ММКИ — 322, исследования биоэквивалентности российских спонсоров — 199, исследования российских спонсоров — 139. В последние годы лидерами являются онкологическое (30% всех КИ) и онкогематологическое (доля этих направлений составляет 35,7% всего рынка в России), неврологическое (9,9%) и инфекционное (9,6%) направления. Последнее обусловлено ростом интереса к изучению COVID-19 и государственному содействию в продвижении таких исследований [29].
Россия — потенциально перспективная страна для проведения ММКИ.
Во-первых, это обусловлено возможностью быстрого набора пациентов, поскольку этот набор проводится через врачей. Согласно данным специализированного исследования, участники исследования в России принимают участие в КИ отнюдь не только из-за альтруизма, а из-за того, что в целом услуги системы здравоохранения их не устраивают, а участие в ММКИ автоматически означает доступ к новым лекарствам и просто регулярное наблюдение у врача [30]. По этой причине недостатка в испытуемых у исследователей в России нет.
Во-вторых, согласно данным Atlant Clinical [25], российские врачи, участвующие в проведении КИ, — профессионалы с мотивацией сделать хорошие исследования, свободно владеющие английским языком и проходившие тренинги по стандарту GCP. «Российские исследователи с бóльшим энтузиазмом и интересом относятся к проведению КИ, чем зарубежные коллеги. Это связано с особенностями системы здравоохранения» [30].
В-третьих, себестоимость проведения исследования в нашей стране ниже в силу меньших выплат персоналу. Особенно понижению стоимости проведения КИ послужил «обвал» рубля, поскольку традиционно все цены в ММКИ рассчитывают в долларах. Однако, как отмечают специалисты, логистика всё же может быть довольно дорогой, так как Россия — страна большая, с не самой быстрой и удобной транспортной системой в мире. По этой причине доставка препаратов, биоматериалов, требующих особых условий хранения, на дальние расстояния может оказаться долгой и дорогой [26].
Клинические исследования в России в условиях пандемии COVID-19
Эпидемия COVID-19 ударила по всем странам мира и существенно повлияла на жизнь общества и состояние экономики. 27 марта 2020 г. письмом №20-1/И/2-3 651 по вопросам проведения КИ ЛП в условиях пандемии коронавируса COVID-19 к субъектам обращения ЛС обратился министр здравоохранения РФ М.А. Мурашко [31]. В нём говорилось, что в связи с введением в РФ режима повышенной готовности и с учётом текущей ситуации в субъектах РФ Минздрав РФ принимает все возможные меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, направленные, в том числе, на уменьшение частоты социальных контактов, которые могут способствовать распространению вируса.
Условия напряжённой эпидемической ситуации и ограничения, наложенные режимом повышенной готовности, могут повлиять на процессы проведения КИ ЛП, привести к трудностям в выполнении процедур протокола КИ, касающихся обеспечения участников КИ исследуемыми ЛП или соблюдения графика посещений и лабораторных/диагностических обследований, установленных протоколом. В этой связи организаторами КИ ЛП в сотрудничестве с исследователями и ЛЭК в интересах участников КИ и с учётом гарантии достоверности данных могут вноситься корректировки в стандартные операционные процедуры. Любые корректировки должны быть основаны на оценке риска каждого отдельного текущего исследования.
Минздрав России подчёркивает, что обеспечение безопасности участников КИ имеет приоритетное значение. Крайне важно, чтобы участники КИ были постоянно информированы об изменениях в графиках визитов и мониторинга. Минздрав России в целях обеспечения безопасности участников КИ на территории РФ, соблюдения надлежащей клинической практики GCP и минимизации рисков для целостности КИ в условиях текущей эпидемической ситуации считает целесообразным рекомендовать организаторам КИ направить усилия на следующие аспекты:
– рассмотреть возможность использования альтернативных методов мониторинга пациентов КИ (например, телефонный контакт, виртуальное посещение, альтернативное местоположение для оценки, включая местные лаборатории и центры визуализации) при условии, что это не увеличит риски для субъектов исследования и не приведёт к ущемлению их прав и законных интересов;
– расширить возможности взаимодействия с пациентами на дому (например, организовать доставку препаратов участнику исследования на дом сотрудниками медицинских центров, организовать сбор биологических образцов по месту жительства при условии, что организатор исследования способен обеспечить должный уровень качества этого процесса, то есть соблюдение стандартов учёта препарата, обеспечение надлежащего качества образцов и т.п.);
– принять меры по минимизации воздействия на целостность КИ, по предотвращению отклонений от протокола, за исключением случаев, когда они направлены на устранение непосредственной угрозы субъектам исследования или когда изменения касаются только административных и материально-технических аспектов исследования, а также уделять особое внимание документированию каждого факта и причин такого отклонения;
– принять меры, направленные на обеспечение максимально возможной защиты вовлечённого в КИ персонала.
Учитывая значимость поддержания высоких стандартов проведения КИ и соблюдения норм законодательства РФ, регулирующих проведение КИ ЛП для медицинского применения, Минздрав РФ подчёркивает, что для организаторов КИ и проверяющих органов приоритетом являются безопасность пациента и поддержание разумного баланса пользы и риска для субъектов исследования. Организаторы КИ могут прибегать также к иным мерам, если в конкретных обстоятельствах их принятие будет служить интересам пациентов КИ. COVID-19 изменял стереотипы и стандарты проведения КИ по изучению препаратов, не имеющих отношения к лечению и профилактике COVID-19 [31].
Риски, сопряжённые с этическими аспектами проведения клинических исследований в условиях пандемии COVID-19, роль этических комитетов
Относительно КИ препаратов, исследуемых по показаниям «лечение COVID-19» и «профилактика осложнений COVID-19», появились новые неожиданные риски: в большинстве случаев разрешение на КИ получили препараты, уже зарегистрированные по другим показаниям (то есть по сути КИ — это применение этих препаратов для лечения больных из разряда off-label). Кроме того, исследования организовывались на базе ковидных центров и больниц, перепрофилированных для лечения больных коронавирусной инфекцией, и эти лечебно-профилактические учреждения работали по другим эпидемиологическим стандартам, нежели обычные.
В плане этики произошло добавление учёта интересов общества в качестве актуализации таких исследований. К основным целям проведения медицинских исследований были добавлены и эпидемиологические причины — понимание развития и эффектов заболевания не только по отношению к участникам исследований, но и по отношению к обществу. В этом направлении работы ключевая роль принадлежит ЭК. К рассматриваемым ими потенциальным рискам для здоровья участников (физический ущерб, психологический ущерб, вторжение в личную жизнь, нарушение конфиденциальности, социальные и экономические травмы) прибавилось ещё и понимание ответственности за будущих пациентов, которые потенциально останутся без помощи в случае не разработки ЛС для купирования эпидемии [32].
Особенности обращения ЛП в условиях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определены Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №441 [33]. Согласно постановлению, «допускается государственная регистрация ЛП при предоставлении не в полном объёме документов, указанных в части 7 статьи 18 Федерального закона “Об обращении лекарственных средств”» [19]. Кроме того, данным постановлением [33] допускалась возможность применения ЛП в период чрезвычайной ситуации по показаниям, не указанным в инструкции по медицинскому применению (off-label).
Так, в условиях пандемии появились новые показания для ряда ЛП в ходе борьбы с данной инфекцией. Здесь большая роль принадлежит врачебным комиссиям медицинской организации и консилиумам врачей (пункт 30 постановления). Кроме того, в пункте 32 постановления зафиксировано, что «изучение эффективности применения ЛП осуществляется в рамках малоинтервенционного исследования с соблюдением принципов надлежащей клинической практики в соответствии с протоколом (программой) научного исследования, утверждённым независимым этическим комитетом...». Таким образом, ЛЭК на местах делегировалась ответственность за принятие решений по одобрению КИ, а это требует профессионализма и ответственности, тщательного взвешивания соотношения риск/польза.
Нужно подчеркнуть, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. №441 (пункт 4) [33] «допускается государственная регистрация ЛП при предъявлении не в полном объёме документов, указанных в части 7 ст. 18 Федерального закона “Об обращении лекарственных средств”» [19]. В связи с этим качеству выполнения КИ и проведения экспертных оценок принадлежит особое значение.
Следует заметить, что многие спонсоры в период эпидемии озаботились проблемой безопасности пациентов и внесли в протоколы КИ изменения, а также присоединились, а в ряде случаев инициировали корректировку стандартных операционных процедур исследовательских центров по вопросам использования альтернативных методов мониторинга, расширения возможности взаимодействия с пациентами на дому, принятия мер по минимизации рисков, воздействующих на целостность исследования.
Эти рекомендации прописаны в Постановлении Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. №441 [33], звучат они и в Руководстве по управлению КИ в условиях COVID-19 пандемии, созданном с участием Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) и других европейских структур [34], где также даны подробные рекомендации по организации КИ в условиях пандемии.
Пандемия COVID-19 очень серьёзно повлияла на изменение правил КИ, но вместе с тем основные принципы биоэтики остались практически неизменными, что отражено в многочисленных документах и публикациях, посвящённых данным вопросам [34–41]. К ним относятся, прежде всего, автономия личности, информированное согласие, внимательное взвешивание соотношения риска и пользы, конфиденциальность и т.д. [42, 43].
Вместе с тем научная ценность результатов, получаемых в ходе КИ, не должна противопоставляться соблюдению этических норм, направленных на защиту каждого пациента, участвующего в исследовании [44]. Все этические стандарты КИ, прописанные в Хельсинкской декларации [2] и в позже вышедших документах ВОЗ, Евросоюза, остаются и должны оставаться незыблемыми, если мы не хотим повторений трагедий, с которыми хорошо знакома история, — с талидомидом, результатом чего стала инвалидность около 12 тыс. детей, или сульфаниламидами, лишившая жизни, по разным данным, около сотни людей [45–47].
Этические стандарты, соответствующие современным требованиям к проведению КИ, являются результатом международных усилий по согласованию различных методов разработки ЛС и рационализации КИ. Учитывая все вышеописанные риски, связанные с этической стороной проведения исследования, необходимо обеспечить все условия для проведения КИ на самом высоком уровне, с выполнением обязательств как перед пациентами, так и перед обществом, принимая во внимание не только острую необходимость разработки современных ЛС, но и эпидемиологическую обстановку в мире [32].
Таким образом, в условиях чрезвычайных ситуаций ЛЭК становятся ключевыми структурами в организации КИ неотложного плана. ЭЭ КИ в условиях эпидемии требует не только внимания экспертов к рискам со стороны участников исследования, но и ответственности перед обществом. Для быстрого принятия решений ЛЭК необходимо предусмотреть возможность ускоренной экспертизы социально значимых проектов (и это должно быть отражено в стандартных операционных процедурах ЛЭК), удобные варианты коммуникаций с заявителями и исследовательскими центрами.
Что же изменилось в работе локальных этических комитетов в период эпидемии?
Поскольку ЛЭК призваны гарантировать безопасность участников КИ, они создали свои стандартные операционные процедуры для деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций, перешли на дистанционный формат общения с исследователями и спонсорами ММКИ, усилили контроль за выходящими документами с целью недопущения снижения стандартов оказания медицинской помощи и проведения КИ по правилам доказательной медицины, предусмотрели механизмы ускоренных принятий решений. Они освоили телекоммуникационное общение, изменили формат проведения заседаний, ввели в действие различные варианты документооборота как внутри ЛЭК, так и с заявителями, применили различные варианты мониторинга курируемых исследовательских центров и др.
Поскольку деятельность ЛЭК Республики Татарстан осуществляется на базе научных и учебных центров, то они использовали опыт учебного процесса, который в первом семестре 2020/2021 г. полностью был переведён на дистантное обучение по стандарту ВОЗ [48]. Дополнения, сделанные в действующие стандартные операционные процедуры ЛЭК, касались исключительно формы организации заседания (дистанционная вместо очной) и документооборота, коммуникаций с внешними экспертами, всё остальное было предусмотрено в ранее разработанных документах ЭК.
ЛЭК Казанского государственного медицинского университета принял стандартные операционные процедуры: «Организация работы этического комитета при чрезвычайных, форс-мажорных и ситуациях непреодолимой силы», «Работа ЛЭК в условиях чрезвычайных ситуаций». Стандартные операционные процедуры, предусматривающие все нюансы ситуаций, в том числе реализуемые с помощью современных телекоммуникативных технологий, дают реальную возможность защитить права участников КИ.
Заключение
Подводя итог, нужно отметить, что для качественного и правомерного проведения КИ в России в условиях эпидемии COVID-19 созданы условия, а именно существует база в виде вертикали Центральный ЭК (МЗ РФ) — ЛЭК (базирующиеся в клинических учреждениях и научных центрах), которые снабжены достаточной и качественной правовой поддержкой в виде законов РФ, стандартов страны и подзаконных актов. Работа ЛЭК строится в соответствии со строгими этическими международными и отечественными стандартами. Стандартные операционные процедуры, реализуемые в ЛЭК, предусматривают все нюансы ситуаций, том числе реализуемые с помощью современных телекоммуникативных технологий. Тем не менее, обмен лучшим опытом как внутри страны, так и с зарубежными коллегами, всегда остаётся востребованным. Накопленный опыт непременно послужит базой для более рациональной организации работы без потерь в этико-правовом поле.
Участие авторов. Ф.Т.Н. — проведение исследования; М.Э.Г. — сбор и анализ результатов.
Источник финансирования. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов по представленной статье.
Соблюдение этических стандартов. Авторы заявляют о соблюдении этических стандартов.
About the authors
Farida T. Nezhmetdinova
Kazan State Agrarian University
Author for correspondence.
Email: nadgmi@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2875-128X
SPIN-code: 8441-6943
Scopus Author ID: 55639803900
ResearcherId: F-9660-2014
Candi. Sci. (Philosoph.), Assoc. Prof., Head of Depart., Depart. of philosophy and law
Russian Federation, Kazan, RussiaMarina E. Guryleva
Kazan State Medical University
Email: meg4478@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2772-129X
M.D., D. Sci. (Med.), Prof., Depart. of bioethics and health law from the course of history of medicine
Russian Federation, Kazan, RussiaReferences
- Nuremberg Code (1947). Human rights and freedoms in psychiatry. http://www.consultant.ru/law/podborki/nyurnbergskij_kodeks/ (access date: 15.02.2022). (In Russ.)
- Declaration of Helsinki of the World Medical Association “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects”. http://www.bioethics.ru/ (access date: 15.02.2022). (In Russ.)
- ICH GCP — ICH harmonised guideline integra¬ted addendum to ICH E6(R1). Guideline for Good Clinical Practice ICH E6(R2) ICH Consensus Guideline — ICH GCP. https://www.ema.europa.eu/ (access date: 15.02.2022).
- Model law on the protection of human rights and dignity in biomedical research. Inter-Parliamentary Assembly of the Confederation of Independent States (Eastern Europe & Central Asia); 2004. http://biomed.nas.gov.ua/files/model_law_eng.pdf (access date: 10.02.2022).
- Universal declaration on bioethics and human rights. UNESCO; 2005. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bioethics_and_hr.shtml (access date: 15.02.2022).
- World Health Organization. Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks. 2016. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250580/9789241549837-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (access date: 12.02.2022).
- Kundiiev YuI, Vitte PN, Chashchin N, Mishatkina T, Sarymsakova B. Developing National Systems for Ethical review in Eastern Europe and Central Asia: Legitimacy and responsibility. Pharmaceutical Medicine. 2008;22(5):285–287. doi: 10.1007/BF03256717.
- Sarymsakova BE, Koykov VV, Sausakova SB. Poryadok provedeniya sertifikatsii lokal'nykh komissiy po bioetike. (The procedure for certification of local commissions on bioethics.) Nur-Sultan; 2019. 16 р. (In Russ.)
- Karakushikova AS, Mustafina AR, Kudaybergenova A, Shayakhmetov SS. Research Ethics Capacity Building for Ethical Regulation of Research as Important Condition for Transition of University into Research University in Kazakhstan. Izvestiya Natsional'noy akademii nauk Respubliki Kazakhstan. Seriya Biologi¬cheskaya i meditsinskaya. 2012;(5):57–65. (In Russ.)
- Dobrova VYe, Zupanets KО, Kolodyezna TY, Timchenko YV. Electronic informed consent model deve¬lopment for implementation in clinical trials in Ukraine. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2017;10(12):238–241. doi: 10.22159/ajpcr.2017.v10i12.21044.
- Zupanets IA, Dobrova VYe, Ratushna KL, Silchenko SO. Introduction of open visiting policy in intensive care units in Ukraine: Policy analysis and the ethical perspective. Asian Bioeth Rev. 2018;10:105–121. doi: 10.1007/s41649-018-0057-9.
- Bioetika i sovremennye problemy meditsinskoy etiki i ¬deontologii: materialy Respublikanskoy nauchno-prakti¬cheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem (Vitebsk, 2 dekabrya 2016 g.). (Bioethics and modern problems of medical ethics and deontology: materials of the Republican scientific and practical conference with international participation (Vitebsk, December 2, 2016).) Ministry of Health of the Republic of Bela¬rus, EE “Vitebsk State Order of Friendship of Peoples Me¬dical University”. Vitebsk: VSMU; 2016. 289 р. (In Russ.)
- Zagorodnikova K, Burbello A, Sychev D, Frolov M, Kukes V, Petrov V. Clinical pharmacology in Russia — historical development and current state. Eur J Clin Pharmacol. 2015;71:159–163. doi: 10.1007/s00228-014-1787-6.
- Guryleva ME, Nezhmetdinova FT. Introduction of ethical standards into the practice of cli¬nical trials in the Russian Federation through the system of ethical committees. Meditsinskaya antropologiya i bioetika. 2011;(2):11. (In Russ.)
- National standard of the Russian Federation GOST R 52379-2005 “Good clinical practice” (approved by order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated September 7, 2005 No. 232-st). https://base.garant.ru/ (access date: 15.02.2022). (In Russ.)
- Nezhmetdinova FT, Guryleva ME. Russian school of bioethics: a quarter of a century of development. Kazan Medical Journal. 2018;99(3):521–527. (In Russ.) doi: 10.17816/KMJ2018-521.
- Nezhmetdinova FT, Guryleva ME. Medical, social and ethical issues related to COVID-19. Kazan Medical Journal. 2020;101(6):841–851. (In Russ.) doi: 10.17816/KMJ2020-841.
- Fede¬ral Law of November 21, 2011 No. 323-FZ “On the Fundamentals of Protecting the Health of Citizens in the Russian Fe¬deration” (with amendments and additions). https://base.garant.ru/ (access date: 08.02.2022). (In Russ.)
- Federal Law of April 12, 2010 No. 61-FZ “On the Circulation of Medicines” (with amendments and additions). https://base.garant.ru/ (access date: 08.02.2022). (In Russ.)
- Order of the Ministry of Health of the Russian Federation da¬ted November 29, 2012 No. 986n “On Approval of the Re¬gulations on the Ethics Council” (as amended). https://base.garant.ru/ (access date: 15.02.2022). (In Russ.)
- Order of the Mi¬nistry of Health of the Russian Federation dated July 10, 2015 No. 435n “On the Ethics Committee of the Ministry of Health of the Russian Federation” (as amended). https://base.garant.ru/ (access date: 15.02.2022). (In Russ.)
- Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated April 1, 2016 No. 200n “On approval of the rules of good clinical practice”. https://base.garant.ru/ (access date: 15.02.2022). (In Russ.)
- Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated June 19, 2003 No. 266 “On Approval of the Rules for Clinical Practice in the Russian Federation” (lost force). https://base.garant.ru/ (access date: 15.02.2022). (In Russ.)
- Clinical Research Portal. https://clinicaltrials.gov (access date: 15.02.2022). (In Russ.)
- Atlant Clinical. https://www.atlantclinical.com/ (access date: 15.02.2022).
- Kamenskiy A. Trial charm. ¬VADEMECUM. 2016;(14):12–29. (In Russ.)
- Clinical trials market size, share, growth, analysis report, 2018–2025. (2018). Grand View Research. https://www.precedenceresearch.com/clinical-trials-market (access date: 12.12.2021).
- RosMinzdrav, official site. http://grls.rosminzdrav.ru/ (access date: 18.02.2022). (In Russ.)
- Association of Clinical Research Organizations. http://acto-russia.org/ (access date: 15.02.2022). (In Russ.)
- Zvonareva L, Kutishenko N, Kulikov E, Martse¬vich S. Risks and benefits of trial participation: A qualitative study of participants’ perspectives in Russia. Clin Trials. 2015;12:646–653. doi: 10.1177/1740774515589592.
- Letter of the Ministry of Health of the Russian Federation dated March 27, 2020 No. 20-1/I/2-3651 “On the conduct of clinical trials of drugs in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic”. https://www.garant.ru/products/ (access date: 15.02.2022). (In Russ.)
- Khokhlov AL, Polozova EA, Komissarova VA, Chudova NV, Cyzman LG. Risks associated with the ¬ethical aspects of conducting clinical trials. Kachestvennaya klinicheskaya praktika. 2020;(1):61–68. (In Russ.) doi: 10.37489/2588-0519-2020-1-61-68.
- Decree of the Government of the Russian Federation of April 3, 2020 No. 441 “On the peculiarities of the circulation of medicinal products for medical use, which are intended for use in conditions of the threat of the emergence, occurrence and liquidation of an emergency and for the prevention of emergency situations, the prevention and treatment of diseases that pose a danger to others , diseases and injuries resulting from exposure to adverse chemical, biological, radiation factors”. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/11/po-voprosam--provedeniyaklinicheskih-issledovaniy-lekarstvennyh-preparatov-v-usloviyah-pandemiikoronavirusa-covid-19 (access date: 15.02.2022). (In Russ.)
- Guidance on the Management of Clinical Trials during the COVID-19 (Coronavirus) pandemic. Version 1 (20/03/2020). https://www.famhp.be/sites/default/files/content/guidance_on_the_management_of_clinical_trials_during_the_covid-19_coronavirus_pandemic.pdf (access date: 12.12.2021).
- OHRP Guidance on COVID-19 (8 April 2020). https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/guidance/ohrp-guidance-on-covid-19/index.html (access date: 15.02.2022).
- World Health Organization. COVID-19 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) Global research and innovation forum: Towards a research roadmap. 12 February 2020. Available at: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum (access date: 13.02.2022)
- Central Asia: ICJ calls on Central Asian States to ensure access to justice during the COVID-19 pandemic. https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/07/Central-Asia-Statement-COVID-19-Advocacy-2020-ENG.pdf (access date: 15.02.2022)
- Public health emergency situation due to the COVID-19 pandemic relevant ethical aspects. Position of the National Council of Ethics for the Life Sciences. https://rm.coe.int/pos-cnecv-covid-19-en/16809e3569 (access date: 15.02.2022).
- Shok NP. Responsible Science and Society: Can Bioethics Influence Clinical Practice? Monitoring of public opinion: economic and social changes journal. 2020;(2):347–364. (In Russ.) doi: 10.14515/monitoring.2020.2.1624.
- Kubar OI. Ethical commentary on COVID-19. Russian Journal of Infection and Immunity. 2020;10(2):287–294. (In Russ.) doi: 10.15789/2220-7619-ECO-1447.
- Kubar OI, editor. Etika vaktsinatsii (kriteriy nauchnogo i gumanitarnogo proryva). (Ethics of vaccination (criterion of scientific and humanitarian breakthrough).) St. Petersburg: FBUN NIIEM imeni Pastera; 2018. 176 p. (In Russ.)
- Nezhmetdinova F. Global challenges and globa¬lization of bioethics. Croat Med J. 2013;54(1):83–85. doi: 10.3325/cmj.2013.54.83.
- Henk ten Have, editor. Encyclopedia of global bioethics. Springer; 2016. 3054 p.
- Romodanovsky DP, Goryachev DV, Khokhlov AL, Myroshnikov AE, Shitova AM, Eremenko NN. Patient's risk in studies of bioequivalence of highly variable drugs. Medi¬tsinskaya etika. 2018;(1):26–32. (In Russ.)
- Crespin S, Bourrel R, Hurault-Delarue C, Lapeyre-Mestre M, Montastruc JL, Damase-Michel C. Drug prescribing before and during pregnancy in south-west France: a retrospective study. Drug Saf. 2011;34(7):595–604. doi: 10.2165/11589170-000000000-00000.
- Zagorodnikova KA, Burbello AT, Pokladova MV. Pharmacovigilance of pregnant women — from “talidomid tragedy” to the present. Remedium. 2012;(8):15–22. (In Russ.)
- Approved by the state. How American authorities protected consumers from harmful products. https://nplus1.ru/material/2020/03/30/regulatory-science (access date: 12.03.2022). (In Russ.)
- United Nations Educational, Scientific, and Cultu¬ral Organization. Distance learning solutions. 2020. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions (access date: 12.02.2022).
Supplementary files