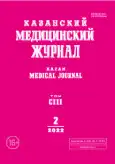The experience of critical burn injury treatment in pediatric practice
- Authors: Gostev V.N.1, Bogdanov S.B.2,3, Harina J.N.1, Arefyev I.Y.1
-
Affiliations:
- University Clinic of the Privolzhsky Research Medical University
- Scientific Research Institute — Regional Clinical Hospital No. 1 named after Professor S.V. Ochapovsky
- Kuban State Medical University
- Issue: Vol 103, No 2 (2022)
- Pages: 296-301
- Section: Clinical observations
- Submitted: 31.10.2021
- Accepted: 02.02.2022
- Published: 12.04.2022
- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/84150
- DOI: https://doi.org/10.17816/KMJ2022-296
- ID: 84150
Cite item
Abstract
Patients with severe burn injuries require specialized medical care. For many decades, burn injury in children remains an important issue both in medical and social-economic aspects. It is explained by the high frequency of this pathology, prevalence among all age groups of the population, severe clinical course accompanied by the multiple organ failure development. About 400 thousand burns per year occur in Russia, 35–40% of them affect children. A burn injury often leads to fatal outcome, disability and reduce of the quality of life. Wound infection associated with the burn injury in children remains a topical problem of modern combustiology. The authors present the clinical case of successful treatment of Patient M., born in 2005. The patient was transferred from the city M. to the burn center of University Clinic of the Privolzhsky Research Medical University in Nizhny Novgorod on the third day after getting the injury. During the hospitalization period in the burn center, the patient underwent complex treatment: infusion-transfusion therapy under the hemodynamic and laboratory indicators control, antibacterial and anticoagulant therapy, nutritional support by a combined method, symptomatic treatment, active surgical tactics (necrectomy by bordering incisions using modern wound hydrocolloid coatings, autologous skin grafting). In skin grafting operations, a high perforation coefficient of split grafts was used (1:6, 1:3). The success of treatment was determined by the creation of an optimal wound environment for the autografts’ engraftment, the absence of regression, which made it possible to restore the skin integrity in a short time, and to avoid complications of the burn disease course. Thus, the early transfer of a child with a severe injury into a specialized burn center, intensive therapy, active surgical tactics, the use of modern wound coatings in the treatment of a patient with a critical area of deep burn injury made it possible to successfully restore the skin in a short time of hospitalization.
Full Text
Пациенты с тяжёлой ожоговой травмой нуждаются в специализированной медицинской помощи [1]. На протяжении многих десятилетий термическая травма у детей остаётся важной не только медицинской, но и социально-экономической проблемой. Обусловлено это высокой частотой данной патологии, распространённостью среди всех возрастных групп населения, тяжёлым клиническим течением, сопровождающимся развитием полиорганной недостаточности [2]. Ежегодно в России получают ожоги около 400 тыс. пострадавших, из которых 35–40% составляют дети. Ожоговая травма часто заканчивается летальным исходом или приводит к инвалидизации и снижению качества жизни пострадавших [3, 4], а раневая инфекция при ожоговой травме у детей — актуальная проблема современной комбустиологии [5].
Основной причиной смерти у пациентов с обширной термической травмой бывает развитие тяжёлой генерализованной инфекции в период острой ожоговой токсемии (ранний сепсис) и в период септикотоксемии (поздний сепсис), вызывающее полиорганную недостаточность [6]. Развитие сепсиса обусловлено большой площадью глубоких ожогов, острым дефицитом донорских ресурсов для закрытия ран, а также, внутригоспитальной инфекцией, связанной с контаминацией штаммов полирезистентных к антибиотикам микроорганизмов [7]. Наряду с инвазией аэробной флоры у детей с площадью поражения свыше 40% поверхности тела высок риск развития системного кандидоза, проявляющегося грибковым сепсисом [8]. Существенное значение для успешного лечения и выживаемости пациентов имеют сроки доставки тяжелообожжённого пациента в ожоговый специализированный стационар и раннее хирургическое лечение [9–12].
Пациент М. 15 лет получил травму 03.05.2021 года в результате воспламенения неизвестных химических реагентов. Первично пациент поступил в Областной клинический многопрофильный центр г. М., где ему была начата противошоковая терапия. При поступлении диагностирована термоингаляционная травма, нарастала клиника дыхательной недостаточности, в связи с чем выполнена интубация трахеи с последующей искусственной вентиляцией лёгких. Учитывая наличие циркулярно расположенных ожоговых ран на левой верхней конечности и туловище, с целью декомпрессии мягких тканей выполнена некротомия левой верхней конечности и туловища многочисленными лампасными разрезами.
На 3-и сутки пациент переведён в ожоговый центр Университетской клиники ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России с диагнозом: «Сочетанная травма. Ожог пламенем I–II–III степени (по Международной классификации болезней 10-го пересмотра) головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей на общей площади 65% поверхности тела (40% — IIIБ степени по классификации Вишневского). Термоингаляционная травма (лёгкой степени). Ожоговая болезнь в стадии острой ожоговой токсемии».
Состояние больного при поступлении тяжёлое, что обусловлено глубиной и обширностью поражения кожного покрова, ожоговой болезнью в стадии ожоговой токсемии, термоингаляционной травмой (лёгкой степени по данным фибробронхоскопии). Уровень сознания — медикаментозный сон. Продолжена искусственная вентиляция лёгких через интубационную трубку. К вечеру 06.05.2021 ввиду отсутствия признаков дыхательной недостаточности, сохранения спонтанного дыхания пациент был экстубирован.
При поступлении пациента в отделение реанимации было продолжено комплексное лечение: инфузионно-трансфузионная терапия, в составе полиионные, кристаллоидные и коллоидные растворы (альбумин, свежезамороженная плазма) в объёме 3500 мл/сут с учётом патологических потерь и физиологической потребности воды, под контролем почасового диуреза и центрального венозного давления. Назначены:
– эмпирическая антибактериальная терапия препаратами широкого спектра действия из групп гликопептидов (ванкомицин) и карбапенемов (меропенем);
– обезболивание с помощью опиоидных ненаркотических анальгетиков через инфузомат;
– антикоагулянтная терапия (далтепарин натрия) с последующим контролем анти-Ха-активности гепарина крови;
– профилактика эрозивно-язвенных изменений со стороны желудочно-кишечного тракта, нутритивная поддержка;
– симптоматическое лечение.
При поступлении ожоговые раны имели мозаичный характер, были представлены дермальными (на лице, передней поверхности грудной клетки справа, кисти) и cубдермальными (шея, подбородочная область, спина, передняя поверхность грудной клетки слева, верхние конечности) коагуляционными и колликвационными некрозами серо-коричневого цвета, интимно спаянными с нижележащими тканями. Имелись многочисленные лампасные разрезы на левой верхней конечности и туловище длиной 4–6 см. (рис. 1).
Рис. 1. Вид больного сзади (а) и спереди (б)
Вследствие сохранения отёка мягких тканей плеча и предплечья провели декомпрессионную некрофасциотомию на левой верхней конечности.
На 9-е сутки с момента травмы выполнена отстроченная некрэктомия окаймляющими разрезами (рис. 2) в области верхних конечностей и туловища на площади 15% поверхности тела до подкожной жировой клетчатки, местами — до глубокой собственной фасции плеча и груди.
Рис. 2. Операция некрэктомия окаймляющими разрезами
С целью профилактики образования вторичных некрозов, паранекрозов, для ускорения репаративных процессов в ожоговой ране, формирования антибактериального эффекта, создания оптимальной раневой среды, стимуляции интенсивной пролиферации клеточных элементов и созревания мелкозернистой грануляционной ткани использовали обработку послеоперационной раны антисептическим гелем [0,1% ундециленового амидопропил-бетаина, 0,1% полиаминопропила бигуанида (полигексанида)]. Сверху накладывали гидроколлоидные покрытия, что позволило в последующем использовать расщеплённые аутодермотрансплантаты с большим индексом перфорации. На остальные раны наложены повязки с противомикробной мазью и водным раствором йода.
Перевязки выполняли с интервалом 1 раз в 3 дня. В области послеоперационных ран сформировались паранекрозы, преимущественно на участках стыка гидрогелевых повязок, площадью около 60 см2. На 7-й день после некрэктомии отмечен активный рост мелкозернистой грануляционной ткани (рис. 3).
Рис. 3. Мелкозернистые грануляции перед оперативным вмешательством — отсроченной аутодермопластикой
На обеих верхних конечностях выполнена аутодермопластика расщеплённым аутодермотрансплантатом толщиной 0,35 мм, на общей площади 15% поверхности тела.
На фоне проводимой интенсивной терапии состояние пациента стабилизировалось. С положительной динамикой на 19-е сутки, пациент переведён из отделения реанимации во 2-е ожоговое отделение (детское ожоговое отделение), где было продолжено комплексное лечение: инфузионно-трансфузионная, антибактериальная, антикоагулянтная терапия, ингибиторы протонной помпы, симптоматическое лечение.
Во время лечения корректировали антибактериальную терапию согласно результатам бактериального посева раневого отделяемого. Бактериальная флора ожоговых ран была представлена полирезистентными штаммами микроорганизмов: Klebsiella pneumonia, Acinetobacter baumani. Проводили лечение антибактериальными препаратами резерва из групп производных фосфоновой кислоты (фосфомицин), полипептидов (полимиксин В), тетрациклинов (тигециклин).
Во время плановых перевязок под тотальной внутривенной анестезией выполняли этапные некрэктомии. На обнажённые раны также накладывали гидрогелевые повязки. В последующем, по мере очищения ран и созревания грануляционной ткани, пациенту выполняли отстроченные аутодермопластики с высоким коэффициентом перфорации (1:6). На подбородочной области, шее и в области крупных суставов (плечевые и локтевые) индекс перфорации составил 1:3. Всего пациенту выполнено 6 оперативных вмешательств, общая площадь аутодермопластик составила 38% поверхности тела.
Донорские раны заживали самостоятельно под сухими повязками, их полная эпителизация произошла на 7–10-е сутки после операции. Учитывая общую площадь и площадь глубокого термического поражения, у пациента был дефицит донорских участков, поэтому производили повторное взятие расщеплённых аутодермотрансплантатов. Регресса расщеплённых аутодермотрансплантатов не было.
В результате проведённого хирургического лечения кожный покров был восстановлен. Площадь остаточных мозаичных ран, не требующих оперативного вмешательства и эпителизирующихся посредством самостоятельной краевой и островковой эпителизации, составляла около 1% поверхности тела.
На 54-е сутки с момента поступления после выполнения ультразвуковой допплерографии сосудов нижних конечностей начаты вертикализация и активизация пациента.
Общая продолжительность нахождения мальчика в стационаре составила 71 койко-день, из них 19 дней — в отделении реанимации. Исход заболевания — выписан с восстановленным кожным покровом (рис. 4).
Рис. 4. Результаты лечения пациента через 5 мес после травмы: вид спереди (а) и сзади (б)
Таким образом, лечение пострадавших с тяжёлой ожоговой травмой — задача сложная, так как требует специальных условий. В связи с этим лечение пациентов данной категории следует проводить в специализированных стационарах, которые позволят оказывать всю необходимую помощь — как хирургическую, так и комплексную интенсивную терапию, направленную на лечение ожоговой болезни. Активная хирургическая тактика в лечении тяжелообожжённых пациентов является приоритетной, позволяет снизить летальность пациентов, существенно сокращает сроки лечения, снижает риск развития осложнений ожоговой болезни (таких, как сепсис, пневмония, ожоговое истощение, полиорганная недостаточность).
Участие авторов. В.Н.Г. и Ю.Н.Х. — анализ полученных данных, хирургическое лечение, написание текста, сбор и обработка материала, обзор литературы; С.Б.Б. — редактирование текста рукописи с внесением изменений и исправлений; И.Ю.А. — финальное редактирование текста рукописи.
Источник финансирования. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов по представленной статье.
Этическая экспертиза. Пациент дал добровольное информированное согласие на публикацию клинического случая и данных из истории болезни в открытой печати.
About the authors
Vitaly N. Gostev
University Clinic of the Privolzhsky Research Medical University
Author for correspondence.
Email: combustiolog@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7028-4438
M.D., Head of the 2nd burn department
Russian Federation, Nizhny Novgorod, RussiaSergei B. Bogdanov
Scientific Research Institute — Regional Clinical Hospital No. 1 named after Professor S.V. Ochapovsky; Kuban State Medical University
Email: bogdanovsb@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9573-4776
M.D., D. Sci.; Head of the burn department
Russian Federation, Krasnodar, Russia; Krasnodar, RussiaJulia N. Harina
University Clinic of the Privolzhsky Research Medical University
Email: yulka-prohor@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7294-0478
M.D., traumatologist-orthopedist
Russian Federation, Nizhny Novgorod, RussiaIgor Yu. Arefyev
University Clinic of the Privolzhsky Research Medical University
Email: igor_arefev@pimunn.ru
M.D., Cand. Sci., Director
Russian Federation, Nizhny Novgorod, RussiaReferences
- Griban PA, Sotnichenko SA, Terekhov SM, Majstrovskij KV, Partin AP, Bondarchuk DV, Popov MD, Usov VV. Evacuation of heavily burned cases as a stage of active tactics of rendering specialized combustiological aid. Experience of the federal state budget healthcare institution “The Far Eastern Regional Medical Center” of the Federal Medical and Biological Agency of Russia. Extreme Medicine. 2018;20(2):159–165. (In Russ.)
- Unizhayeva AYu, Martynchik SA. Medical economic evaluation of hospital costs linked to quality of inpatient care for burning injury. Social aspects of population health. 2012;(6):8. (In Russ.)
- Bagin VA, Rudnov VA, Savitskiy AA, Korobko IA, Veyn VI. Risk factors and prognosis for sepsis in patients with burn injury. Vestnik anesteziologii i reanimatologii. 2013;10(5):21–26. (In Russ.)
- Zhylinski EV, Chasnoits AC, Alekseev SA, Doroshenko GV. Analisys of lethality, main prognostic factors and complications in burn patients Meditsinskie novosti. 2014;(11):87–91. (In Russ.)
- Sakharov SP, Axelrov MA, Frolova OI. Analysis of microorganism types composition in children with thermal injury. Medical almanac. 2019;(5–6):94–97. (In Russ.) doi: 10.21145/2499-9954-2019-5-94-97.
- Shakirov BM, Aminov UH, Khakimov EA, Tagaev KR, Shahanov ShS. Mortality in burn disease and ways of its’ reducing. Vestnik ekstrennoy meditsiny. 2013;(3):180–181. (In Russ.)
- Baindurashvili AG, Kolbin AS, Brazol MA, Aristov AM. The effect of features of surgical treatment of children with the extensive thermal injuries on the frequency of invasive candidosis. Travmatologiya i ortopediya Rossii. 2009;(2):76–80. (In Russ.)
- Lekmanov AU, Azovskiy DK, Pilyutik SF. Survival analysis in the children with severe thermal injury transferred to the hospital within the first 72 hours after the injury. Vestnik anesteziologii i reanimatologii. 2018;15(5):30–38. (In Russ.) doi: 10.21292/2078-5658-2018-15-5-30-38.
- Sacharov SP, Ivanov VV, Zoroastrov OM, Zoroastrov MO. Analysis of lethal outcomes in children with burn dieases. Bulletin of experimental and clinical surgery. 2010;3(3):256–259. (In Russ.) doi: 10.18499/2070-478X-2010-3-3-256-259.
- Gardien KL, Middelkoop EN, Ulrich MM. Progress towards cell-based burn wound treatments. Regen Med. 2014;9(2):201–218. doi: 10.2217/rme.13.97.
- Brusselaers N, Pirayesh A, Hoeksema H, Richters CD, Verbelen J, Beele H, Blot SI, Monstrey S. Skin replacement in burn wounds. J Trauma. 2010;68(2):490–501. doi: 10.1097/TA.0b013e3181c9c074.
- Groeber F, Holeiter M, Hampel M, Hinderer S, Schenke-Layland K. Skin tissue engineering — in vivo and in vitro applications. Adv Drug Deliv Rev. 2011;63(4):352–366. doi: 10.1016/j.addr.2011.01.005.
Supplementary files