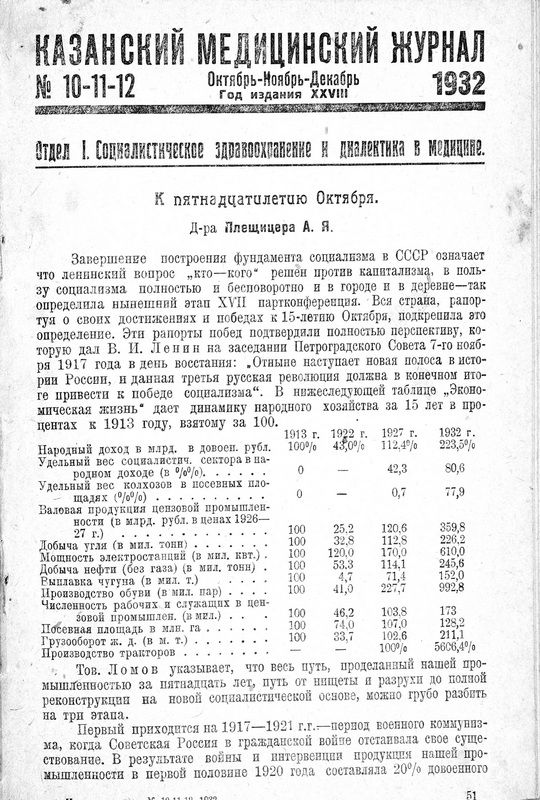On the question of the so-called. “Summation of disability”.
- Authors: Vigdorchik N.A.
- Issue: Vol 32, No 10-12 (1932)
- Pages: 809-816
- Section: Articles
- Submitted: 20.09.2021
- Accepted: 20.09.2021
- Published: 02.10.2021
- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/80670
- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj80670
- ID: 80670
Cite item
Full Text
Abstract
In the practice of medical insurance expertise, from time to time, there are cases when a person who is being certified for disability has at the same time defects — so to speak — of various insurance values.
Keywords
Full Text
- В практике врачебно-страховой экспертизы время от времени попадаются случаи, когда у лица, свидетельствуемого на предмет установления инвалидности, имеются одновременно дефекты—если можно так выразиться—различного страхового значения. Как известно, наше законодательство различает инвалидность травматическую (от несчастного случая на производстве), профессиональную (от одной из специфически-профессиональных болезней, перечисленных в особом списке), и общую (от прочих причин). При этом травматическая и профессиональная инвалидность связаны с некоторыми льготами, которых не дает общая инвалидность. В этом именно смысле мы и говорим о дефектах „различного страхового значения“. Человек может иметь, скажем, заболевание сердца, не стоящее ни в какой связи ни с несчастным случаем, ни с профессиональным заболеванием, и одновременно дефект пальцев руки, оставшийся после трудового увечья. Свинцовый рабочий страдает параличем правой кисти на почве свинцового отравления, и у него же отсутствует глаз, потерянный в детстве от бытовой травмы. В таких случаях экспертизе приходится „суммировать“ различные составные часта инвалидности. Проблема эта довольно сложная, и практика наших БВЭ по большей части уклонялась от ее разрешения. Вошел в обычай такой порядок, когда инвалиду одновременно назначали две группы—одну по общему заболеванию, другую по увечью или профессиональному заболеванию и затем предлагали ему выбрать то, что ему выгоднее.
Недопустимость такого беспринципного разрешения вопроса совершенно очевидна. Однако до сих пор не было прямых указаний в законе, 4 которые бы воспрещали этот своеобразный подход к делу. В настоящее время опубликована инструкция Союзного Совета социального страхования, касающаяся работы Врачебно-трудовых экспертных комиссий, и в этой инструкции категорически предписывается „суммировать“ инвалидность в случаях, о которых у нас идет речь1). Пункт 4-й инструкции гласит следующее:
„ Отнесение одного й того же лица одновременно к разным группам по общим причинам и по трудовому увечью или профессиональному заболеванию не допускается. При определении характера и степени нетрудоспособности необходимо считаться с основной причиной, вызвавшей нетрудоспособность“.
Этим пунктом проблема „суммирования инвалидности“ ставится на очередь дня. Для работников врачебно-страховой экспертизы делается актуальным вопрос о том, как в случаях смешанной инвалидности определить ту „основную“ причину, о которой говорит законодатель.
В виду этого я считаю своевременным изложить и обосновать методику, которую я применяю при экспертизе смешанных случаев инвалидности уже в течение ряда лет.
- Случаи смешанной инвалидности, где требуется суммирование дефектов различного страхового значения, легко группируются в две категории. И для упрощения нашего дальнейшего анализа лучше рассматривать эти категории раздельно. К первой категории относятся случаи, где разнородные дефекты развиваются последовательно, один после другого. Например, человек с субкомпенсированным пороком сердца, служащий сторожем, получает на работе перелом ребра. Здесь часть инвалидности, зависящая от общих причин, существует раньше, а потом к ней присоединяется новое слагаемое, уже травматического характера.
Вторую категорию случаев смешанной инвалидности составляют те случаи, где разнородные дефекты развиваются одновременно, параллельно. Напр., стеклодув с 30-летним стажем заболевает катарактой. Признавая эту катаракту профессиональным заболеванием, мы одновременно находим у свидетельствуемого еще расширение и недостаточность сердца, т. е. изменение общего характера. Здесь дефекты, обусловливающие инвалидность, не отделимы друг от друга во времени. Мы не можем сказать, что развилось раньше и что позже.
В случаях первой категории, т. е. при разновременном развитии дефектов, установление основной причины, вызвавшей нетрудоспособность, сравнительно просто. Здесь уже самая последовательность событий зачастую с полной определенностью указывает, какой дефект нужно считать наиболее существенным. Решающее значение мы приписываем здесь обыкновенно тому дефекту, который вывел человека из состояния работоспособности и положил начало инвалидности или резко усилил уже бывшую ранее инвалидность. Так, в приведенном только что примере со сторожем, получившим перелом ребра, решение вопроса не вызывает никаких сомнений. Каковы бы ни были общие изменения организма, вызванные пороком сердца, сторож, однако, до несчастного случая был работоспособен в своей профессии. Увечье лишило его этой работоспособности. Перелом ребра, сам по себе, не представляет тяжелой травмы и у здорового во всех остальных отношениях человека он не вызвал бы инвалидности; но в данном случае именно это увечье сыграло роль решающего фактора инвалидизации. Поэтому и вся та инвалидность, которая получилась в результате обоих дефектов, должна считаться травматической.
Но, конечно, не всегда дефекты располагаются в таком хронологическом порядке, как в только что приведенном примере. Может существовать последовательность обратного порядка. Человек может иметь дефект травматического или профессионального происхождения, а затем к этому дефекту присоединяется другой, но уже общего характера. Например, слесарь потерял вследствие трудового увечья ногу. Он приспособился к протезу и продолжает работать по своей специальности, хотя и с неполной нагрузкой. Но вот он делается жертвой бытовой травмы, которая, как известно, в страховом смысле приравнивается к общему заболеванию. В результате травмы приходится ампутировать левую кисть. Какая инвалидность будет в этом случае? Так как фактором, выведшим исследуемого из строя, является здесь общее заболевание, то и суммарная инвалидность должна трактоваться, как общая.
Перейдем теперь к случаям второй категории, т. е. к случаям одновременного развития разнородных дефектов. В этих случаях решение вопроса о наиболее существенном факторе или—как говорится в упомянутой выше Инструкции—об „основной причине“ уже несколько труднее, так как здесь нет такого наглядного, объективного показателя, как последовательность событий во времени. Победить эту трудность можно только путем абстракции: мы должны мысленно отделить один дефект от другого и представить себе их существующими раздельно. При этом мы ставим себе вопрос, какой из дефектов—при самостоятельном существовании—в большей степени ограничивал бы работоспособность свидетельствуемого, т. е. в большей степени суживал бы круг доступных для него профессий. Этот дефект и должен быть признан наиболее существенным, и им должен определиться характер суммарной инвалидности. Допустим, напр., что инвалидность обуславливается одновременно декомпенсацией сердца и хроническим профессиональным дерматитом. Здесь ясно, что сердечное заболевание резче ограничивает работоспособность, чем кожное. Инвалидность, конечно, будет общей, а не профессиональной. Напротив, в случае, где мы имеем хроническую экзему рук непрофессионального происхождения и одновременно резкое свинцовое малокровие с упадком питания, мы должны считать превалирующим свинцовое отравление. Инвалидность должна быть признана профессиональной.
- Таковы в схематическом виде основные правила суммирования инвалидности. Однако, при применении изложенных правил к бесконечному разнообразию экспертизой казуистики возникают нередко серьезные затруднения. Мы должны эти затруднения указать и найти принципиально-обоснованный выход из них.
Прежде всего попадаются такие случаи одновременного развитая разнородных дефектов, где очень трудно решить, который из этих дефектов в большей степени ограничивает работоспособность свидетельствуемого. Мы выше привели такие комбинации, как декомпенсация сердца и дерматит или свинцовая кахексия и экзема. В этих примерах удельный вес сопоставляемых дефектов настолько различен, что отдать предпочтение одному из них нетрудно. Но как быть в случае такого рода: счетовод в возрасте около 60 лет с общим артериосклерозом, начальным склерозом мозговых сосудов и с некоторыми признаками кардиосклероза страдает одновременно профессиональным заболеванием—именно координаторным неврозом в форме писчей судороги. По совокупности всех изменений экспертиза определяет состояние исследуемого как инвалидность III группы. Но какая эта инвалидность? Какой дефект надо считать здесь превалирующим? Что в большей степени ограничивает круг доступных профессий—писчая судорога или артериосклероз? В таких случаях необходимо более глубоко проанализировать все индивидуальные условия— стаж, анамнез, прежние профессии, производительность на работе, заработок и т. д. При учете всех этих моментов можно в конце концов все- таки решить, какой дефект существеннее для трудоспособности исследуемого и соответственно этому квалифицировать и его инвалидность.
Далее, бывают затруднения и в случаях разновременного возникновения дефектов. Здесь надо остерегаться грубо механического применения изложенных нами правил. Надо помнить, что последующий дефект не всегда является решающим. Бывают случаи, когда мы должны приписать существенное значение не тому дефекту, после развития которого наступила инвалидность, а тому, который существовал ранее, т. е. тому, с которым человек работал. Это кажется на первый взгляд странным, но не нужно забывать, что мы исходим из принципа наиболее существенного дефекта—.основной причины“ и что хронологическая последовательность дефектов служит только материалом для суждения о существенности того или иного влияния на работоспособность. Приведем ч пример: бухгалтер 65 лет, совершенно изношенный, почти рамолик, укалывает себе на работе палец, получает панариций, после которого через 3 недели остается небольшой рубец на указательном пальце правой руки. Несмотря на незначительность этого дефекта, свидетельствуемый заявляет, что он больше работать не может, что у него дрожат руки, трясется голова, ослабела память и пр. Экспертиза признает здесь наличие II группы инвалидности, но можно ли говорить здесь о травматической инвалидности? Разве не ясно, что свидетельствуемый все равно унте был созревшим инвалидом, и что травма пальца была только поводом для обращения к экспертизе, а не причиной прекращения работы? Мы, не колеблясь, должны в таких случаях признать общую, а не травматическую инвалидность. Иначе создалось бы такое положение, что любой инвалид-туберкулезный, сердечный, с злокачественным новообразованием, с органическим заболеванием центральной нервной системы и т. п.—мог бы легко превратить свою инвалидность в травматическую, дождавшись какой-либо незначительной травмы, которых так много в профессиональной жизни.
- Следующее затруднение, на которое мы должны обратить внимание читателя, встречается в случаях, где одна из составных частей смешанной инвалидности дает застрахованному больше прав, чем целая инвалидность, получающаяся в результате суммирования. Сюда относятся прежде всего случаи, где у свидетельствуемого нет стажа, необходимого для получения пенсии по общей инвалидности. Известно, что право на профессиональную и травматическую инвалидность не обусловлено каким-либо стажем; достаточно одного дня наемного труда, чтобы уже иметь право на такую инвалидность. С общей же инвалидностью дело обстоит иначе: здесь необходим стаж, продолжительность которого тем больше, чем выше возраст застрахованного. И вот, если у свидетельствуемого нет стажа, соответствующего его возрасту, а правила суммирования инвалидности приводят к заключению, что инвалидность должна быть признана общей, мы можем попасть в очень странное положение: мы как будто что-то даем инвалиду, а в действительности отнимаем у него. Возьмем для примера тот самый случай, который мы привели выше в качестве иллюстрации к категории последовательного развития дефектов. Речь идет о слесаре, который сперва потерял ногу от трудового увечья, а затем левую кисть—от бытовой травмы. Мы решили этот случай таким образом, что признали наличие общей инвалидности. Допустим, однако, что наш слесарь не имеет стажа, достаточного для получения пенсии по общей инвалидности. Следовательно, заменив бывшую у него травматическую инвалидность общей, мы фактически лишим его той пенсии, которую он получал после первого несчастного случая. При этом, конечно, нашего инвалида не может утешить то соображение, что общую инвалидность мы признаем у него в более высокой степени, чем та, которую имела его травматическая инвалидность. Ибо лучше получать пенсию по III группе, чем не получать ее по II. Ключ к разрешению подобного рода казусов нужно искать в основных принципах нашего страхового законодательства. По духу последнего помощь со стороны страховых учреждений может уменьшиться лишь постольку, поскольку у застрахованного повышается способность самостоятельно поддерживать свой жизненный уровень. Если инвалид избавляется от своего дефекта, естественно лишать его пенсии. Естественно перевести инвалида из более высокой группы в более низкую, когда у него обнаруживается привыкание к дефекту, приспособление к новой профессии, приобретение новой квалификации. Но совершенно нелогично понизить страховую помощь человеку, получившему в дополнение к старому дефекту еще новый. Пусть этот новый дефект—в силу юридического положения за- застрахованного (отсутствие стажа)—не дает ему новых страховых прав, но лишить его прежних прав он, конечно, тоже не может. Поэтому в приведенном случае мы должны оставить за застрахованным ту пенсию, которую он получал до бытовой травмы.
- Последняя категория затруднений в интересующей нас области касается случаев т. наз. „скрытой“ инвалидности. Под этим термином мы разумеем такое состояние, когда трудоспособность в течение известного времени сохраняется несмотря' на наличие в организме существенных дефектов, при чем влияние этих дефектов на трудоспособность обнаруживается лишь при наступлении определенных условий. Применительно к нашей теме нас интересуют здесь два вида скрытой инвалидности—при профессиональной глухоте и при потере здорового глаза у одноглазных.
Начнем с профессиональной глухоты. Известно, что работа в шумовых профессиях при длительном стаже приводит к более или менее резкому понижению слуха. Такая „шумовая“ или профессиональная глухота включена у нас в список профессиональных болезней, дающих право на профессиональную инвалидность. Но профессиональная глухота имеет одну парадоксальную особенность: это—единственная профессиональная болезнь, которая не понижает трудоспособности в той профессии, которая ее обуславливает. В самом деле отсутствие слуха не только не мешает работе в шумовой профессии, по до некоторой степени даже облегчает эту работу, избавляя рабочего от неприятных субъективных ощущений. И вот эта-та особенность создает нередко затруднения при суммировании инвалидности.
До тех пор пока рабочий остается на шумовой работе, вопроса об инвалидности из-за глухоты по только что изложенной причине не возникает. Очевидно, что экспертизе приходится решать этот вопрос только тогда, когда рабочий шумовой профессии—не вследствие глухоты, а по какой-либо другой причине—должен уйти из своей профессии. Тогда обнаруживается, что кроме дефекта, обусловившего уход из профессии, имеется еще один дополнительный дефект—именно глухота,—еще более ограничивающий остаточную трудоспособность. Экспертизе приходится при этом суммировать инвалидность различного происхождения и решать вопрос о характере получающейся в сумме инвалидности. Если дефект, заставляющий бросить шумовую профессию, сам по себе незначителен (напр., потеря 1—2 пальцев, ревматизм суставов и т. и.), а понижение слуха, наоборот, успело развиться до значительной степени, то вопрос решается просто: суммирование дает нам профессиональную инвалидность. Но как быть в случае, где наряду с глухотой имеется значительный общий дефект—напр., резкая изношенность сердца и сосудов—дефект, который очевидным образом в большей степени ограничивает трудоспособность, чем глухота? Дать общую инвалидность? Но такое решение могло бы произвести на рабочего неблагоприятное впечатление: оно могло бы быть истолковано, как отказ вознаградить явную, очевидную, кричащую о себе профессиональную болезнь, внесенную законодателем в список профессиональных болезней. От такого истолкования нашего решения могла бы, может быть, затрудниться и вербовка кадров для шумовых профессий. Поэтому нам кажется, что поскольку профессиональная глухота является исключением из всех профессиональных болезней— в том смысле, что она дает скрытую, а не явную профессиональную инвалидность,—и при суммировании инвалидности она должна быть поставлена в особое положение. В случаях, аналогичных приведенному выше, мы отдаем предпочтение при суммировании именно глухоте, а не общему дефекту, и суммарную инвалидность считаем профессиональной, а не общей.
- Теперь—о потере здорового глаза у одноглазых.
Представим себе, что. человек потерял глаз от стружки, отлетевшей при обтачивании болванки. Одноглазый—он остается на работе. Проходит ряд лет, и другой глаз делается жертвой бытового несчастного случая. Слепого приводят в ВВЭ. Относительно степени неработоспособности вопрос решается просто, но каков характер инвалидности? Правила суммирования как будто говорят за общую инвалидность. В самом деле, человек выведен из строя дефектом общего характера (бытовой травмой), этот дефект и является наиболее существенным фактором инвалидности. Но слепой возражает; он говорит, что не будь у него потерян первый глаз от несчастного случая, его бытовая травма не сделала бы его беспомощным. Значит корни его инвалидности восходят к первой травме; поэтому его инвалидность должна быть признана травматической.
И это возражение нужно признать правильным.
Наш организм имеет целый ряд парных органов. Если вдуматься в их функции, то легко различить два типа парных органов. Один тип представляет собой единый аппарат, состоящий из двух одинаковых частей. Таковы ноги. Аппарат ходьбы требует двух ног, как велосипед должен иметь два колеса. Потеря одной ноги уничтожает аппарат ходьбы полностью. Теряется не половина функции, а вся целиком, или почти вся целиком.
Другим типом парных органов являются глаза. Видеть можно и одним глазом. Правда, для стереоскопического зрения нужны оба глаза. Но это касается только одной из функций глаз. Основная же, главная функция—видение, как таковое—осуществляется и одним глазом. Другой глаз играет лишь роль резерва. Поэтому с потерей одного глаза зрение не уничтожается. Нередко одноглазый и двуглазый работают рядом как совершенно равноценные работники.
Это существенное различие между обоими типами парных органов не может не отразиться на отношении экспертизы к случаям потери одного из парных органов. Потеря одной ноги квалифицируется в начале нередко как полная инвалидность. Только через известный срок, после привыкания к протезу, инвалидность эта понижается. Потеря одного глаза никогда не расценивается высоко. Зачастую, сразу же признается полная трудоспособность. Но за то в совершенно противоположном смысле решается вопрос при последовательной потере второго парного органа. Потеря второй ноги у одноногого перемещает его из II группы в І-ю, или из III во II, или, наконец, из III в I. Но потеря второго глаза у одноглазого переводит человека нередко из состояния трудоспособности прямо в 1 группу. Откуда этот резкий скачок? Это есть учет скрытой инвалидности. Потеря резерва есть уже инвалидность, но потенциальная, до поры до времени скрытая. Когда в этом резерве появляется нужда и его не оказывается, тогда скрытая инвалидность становится явной.
Очень интересна западно-европейская страховая практика по данному вопросу. Частные страховые общества вообще одноглазых не страхуют. Государственные страховые учреждения в Германии и Австрии при потере одного глаза дают пенсию в размере 25%. Но эта пенсия очень часто увеличивается до 33 ⅓%- При этом в качестве мотива увеличения нередко указывают на повышенную опасность потери второго глаза в будущем. В одном заключении сказано буквально так: „Возможность позднейшей полной слепоты вследствие повреждения или заболевания оставшегося глаза учтена в указанной пенсии“, т. е. в 33 ⅓% И действительно, в случаях последующей потери второго глаза от общих, что страховое учреждение как бы страхует себя у застрахованного и платят ему страховую премию в размере 8 ⅓%.
Весь этот порядок и вся эта установка нам, конечно, чужды. Наши страховые учреждения далеки от того, чтобы страховать себя от риска заплатить в будущем повышенную пенсию. Риск остается на страховом учреждении. Одноглазому дают немного—именно то, что соответствует его трудоспособности в данный момент. Но когда он теряет второй глаз, страховое учреждение учитывает, что слепота существенным образом зависит от потери первого глаза. И если эта потеря первого глаза связана с трудовым увечьем, то инвалидность, в случае последующей слепоты, должна считаться травматической.
1 См. „Вопросы страхования“ за 1932 г., № 23—24.
About the authors
N. A. Vigdorchik
Author for correspondence.
Email: info@eco-vector.com
Russian Federation
References
Supplementary files