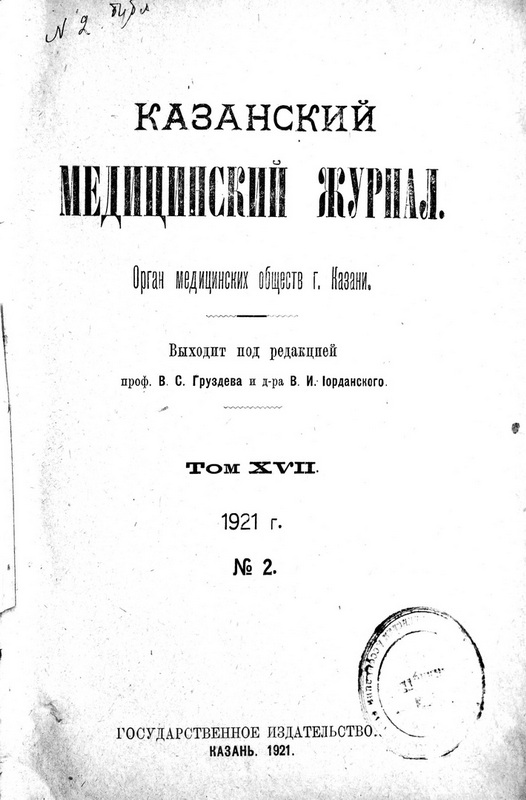Случай симптомокомлекса Morgagni-Adams-Stokes’a
- Авторы: Руфимский В.В.
- Выпуск: Том 17, № 2 (1921)
- Страницы: 169-189
- Раздел: Статьи
- Статья получена: 15.08.2021
- Статья одобрена: 15.08.2021
- Статья опубликована: 13.06.1921
- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/78027
- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj78027
- ID: 78027
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Случаи симптомокомплекса Morgagni-Adams-Stokes’a представляют интерес в трех отношениях: во-первых, болезнь эта далеко нечасто встречается и еще недостаточно изучена (так, за последние 10 лет в Факультетской Терапевтической клинике Казанского Университета было всего три случая названной болезни); во- вторых, иногда, как это было и в нашем случае, больные указанной болезнью представляют очень интересные явления со стороны сердца, обнаруживаемые при аускультации сердца, особенно непосредственной, т. е. аускультации ухом без стетоскопа; в-третьих, наконец, случаи симптомокомплекса Morgagni-Adams-Stokes’a интересны по той поучительной картине, какую дают при названной болезни новейшие методы исследования, применяемые в кардиологии, именно, сфигмофлебография и особенно электрокардио диагностика. Последняя в случаях кардиогенного типа названной болезни дает возможность с уверенностью поставить очень точный анатомический диагноз.
Ключевые слова
Полный текст
Случаи симптомокомплекса Morgagni-Adams-Stokes’a представляют интерес в трех отношениях: во-первых, болезнь эта далеко нечасто встречается и еще недостаточно изучена (так, за последние 10 лет в Факультетской Терапевтической клинике Казанского Университета было всего три случая названной болезни); во- вторых, иногда, как это было и в нашем случае, больные указанной болезнью представляют очень интересные явления со стороны сердца, обнаруживаемые при аускультации сердца, особенно непосредственной, т. е. аускультации ухом без стетоскопа; в-третьих, наконец, случаи симптомокомплекса Morgagni-Adams-Stokes’a интересны по той поучительной картине, какую дают при названной болезни новейшие методы исследования, применяемые в кардиологии, именно, сфигмофлебография и особенно электрокардио диагностика. Последняя в случаях кардиогенного типа названной болезни дает возможность с уверенностью поставить очень точный анатомический диагноз.
На основании вышеизложенного и считаясь со взглядом Gibbson’a (Brit, medic. Journal, 28 октября 1906 г., стр. 1113), что каждый случай болезни Adams-Stokes’a, в котором достоверно установлен клинически факт заторможения, должен быть опубликован, мы находим возможным сообщить и наш случай симптомокомплекса Morgagni - Adams-Stokesа.
Начнем с анамнеза Больной М., 40 лет, поступил в первый раз в Факультетскую Терапевтическую клинику 15 октября 1920 года с жалобами на одышку, наступающую при ходьбе и после обильного приема грубой пищи, резкую общую слабость, легкую утомляемость и своеобразные припадки, сопровождающиеся потерей сознания. Перед припадком больной обыкновенно ощущает, что у него перестает биться сердце, и это ощущение для больного крайне мучительно. Самого припадка, его продолжительности, его характера п особенностей больной совершенно не помнит, а потому и рассказать о припадке ничего но может. По словам окружающих, больной в начале припадка бледнеет, затем лицо его становится цианотичным, больной, если он стоял или сидел, падает, и иногда начинаются судороги сперва мышц лица, затем мышц конечностей и всего тела,—судороги коликотонического характера. ’Припадок длится обычно несколько секунд. Затем к больному возвращается сознание, и он просыпается. как после тяжелого, мучительного сна. Иногда припадки бывают слабо выраженными и состоят в мгновенном затемнении сознания и в легком подергивании всего тела. Начало своей болезни М. относит к февралю 1920 года. Болезнь начиналась постепенно и проявлялась в наступлении одышки при ходьбе и уже описанного характера припадках. В начале болезни припадки были сравнительно редкими (2 — 3 раза в сутки), в мае 1920 г. стали чаще,—число их достигало до 15—20 в сутки.—а в сентябре 1920 г. они снова стали несколько реже. На силу и частоту припадков резкое влияние оказывает настроение больного: стоит больному несколько поволноваться, или его постигнет какая-либо неприятность или неудача,—и припадки становятся сильнее и чаще. По совету врачей М. с февраля 1920 года лечился различными сердечными средствами (digitalis, coffein, camphora etc.) и препаратами морфия. Сердечные средства, по словам больного, не помогали, а морфий несколько ослаблял силу припадков.
В детстве больной, по словам его родителей, перенес скарлатину, легкую форму натуральной оспы и золотуху Рос до 5—6 лет очень хилым ребенком. В рапной молодости болел уретритом, а в 1898 году, т. е. 23 года назад, 18-ти лет от роду, заболел lues’oм, от которого М. вскоре после заражения принял два полных курса лечения ртутью (по 40 иньекций каждый) и пил много йодистого калия Видимые проявления lues’a были неособенно резкими: больной отмечает лишь образование слизистых папул oris et аnі. Реакция Wassermanira, произведенная в 1916 году в Перми, дала отрицательный результат. С юношеских лет больной сильно злоупотреблял алкоголем и много курил. Женился М. в 1900 году, 20-ти лет от роду. У жены не было ни одной беременности. Все родственники со стороны отца и очень многие со стороны матери больного —алкоголики. Больной до 1917 года занимался главным образом торговлей жил в деревне, питался хорошо. Иногда приходилось много заниматься физическим трудом.
При объективном исследовании больного М.. произведенном 15—16 октября 1920 года, обнаружено следующее:
Больной М высокого роста, правильного телосложения. Вес его 68 килогр. Кожа суха, с бледноватым оттенком. Слизистые губ несколько цианогичны. На коже нет ни сыпей, пи рубцов; нет также никакого отёка. Из лимфатических желез прощупываются несколько увеличенные подчелюстные, особенно слева, передние шейные, также особенно слева, и паховые—с обоих сторон. Мышечная и костная системы в норме Подкожная жировая клетчатка развита удовлетворительно. Склеры с небольшим желтоватым оттенком. Обе легочные верхушки выстоят равномерно над ключицами на два поперечных пальца. Перкуторный звук над правой верхушкой несколько заглушен. Несколько ослабленный вдох и чуть-чуть удлиненный выдох над правой верхушкой Нижняя граница правого легкого при стоянии больного определяется по lin. parasternalis на 5-м ребре, по lin. mamillaris—на 6 м, но lin axillaris media—на 8 м, по lin scapularis—на 11 м, по lin paravertebrale— на 12-м. Нижняя граница левого легкого по lin. axillaris media—на 8 м ребре, по lin. scapularis—па 10-м и по lin paravertebralis—на 12 м. Подвижность краев легких при дыхании всюду и вполне сохранена. Кроме правой верхушки, всюду нормальное везикулярное дыхание и никаких хрипов.
Самые резкие и наиболее интересные уклонения от нормы мы получили от нашего больного при исследовании его сердечно-сосу диетой системы. Так, артериальный пульс больного равнялся всего 24 ударам в минуту. Пульс этот был вполне ритмичным, синхроничным на обоих лучевых артериях, достаточного наполнения и напряжения. Обе лучевые артерии несколько уплотнены. На шее больного - ясно видимая пульсация вен, резче выступающая справа, и,—что особенно важно,—при осмотре уже простым глазом было заметно, что венный пульс значительно чаще, тем артериальный. Пульсации в fossa jugularis пет. При осмотре области сердца ничего особенного не отмылось. Сердечный толчек в 5-м межреберьи по lin. mamillaris sinistra, нерезко выраженный Верхняя граница абсолютной сердечной тупости—на 3-м ребре, правая—на 2 пальца вправо от lin sternalis dextra, левая—по lin. mamillaris sinistra. Притупления перкуторного звука пи на рукоятке, ни на теле грудины но обнаруживалось. При аускультации сердца первое, что бросалось в глаза и обращало на себя внимание, это—крайне разнообразная мелодия сердца и неодинаковая сила первого сердечного тона. Этот первый тон сердца бал то очень звучным и напоминал собою как бы пушечный выстрел с далекого расстояния („пушечный тон“ по Стражеско (2), то слышался значительно ослабленным, то был нормальней силы. Кроме того, при непосредственной аускультации ухом иногда, кроме первого и второго тона сердца, удавалось слышать еще третий тон разной силы,—то еле слышный, то глуховатый, то совершенно отчетливо выступающий. Этот 3-й тон определялся то в средине, то в конце диастолы,—и тогда ритм сердечно- то боя определялся не в 2/4, а в 3/4. На верхушке сердца и особенно в 3-м и 4-и левых межреберьях у грудины выслушивался громкий протяжный систолический шум своеобразного характера. Этот шум, как и первый юн на верхушке сердца, по слышался очень явственно, то значительно ослабевал в своей силе, то совсем не был слышим. По направлению к левой подмышечной впадине и к правой ключице он постепенно ослабевал и исчезал. Во 2-м правом межреберьи у грудины его не было слышно совершенно. Се стороны второго тона наблюдалось его резкое раздвоение на грудине и особенно на art. pulmonalis. Исследование лучами Rönt- gen'a, подтверждая данные, полученные при перкуссии сердца, обнаружило еще и некоторое диффузное расширение восходящей части аорты. Реакция Wassermann’a, произведенная в Казанском Бактериологическом Институте в начале октября 1920 года, была резко-положительной. Кровяное давление по Pасhоn’y maximum 135 mm. и minimum 50 ram. Исследование крови дало следующие результаты: НЬ—93%, Е—5,800,000, L—12,900.
Со стороны желудка и кишечника—никаких жалоб и никаких объективных уклонений от нормы. Печень увеличена, —ее нижний край прощупывается по lin. mamillaris dextra ниже реберной дуги на 2½— 3 пальца Она несколько плотнее нормы, поверхность ее совершенно гладкая, нижний край закругленный и ровный. При: пальпации печень неболезненная. Селезенка не прощупывается. Со стороны мочеполовых органов—ничего особенного. Суточное и количество мочи—около 1½ литров; моча соломенно-желтого цвета, слабо-кислой реакции, совершенно прозрачна; удельный вес ее—1,016. Белка, сахара, желчных пигментов и индикана не содержит. Реакция Schlesinger’a на уробилин резко положительна в осадке, кроме мочекислых солей, ничего особенного Со стороны нервной системы и органов чувств при тщательном и неоднократном исследовании, произведенном ассистентом клиники нервных болезней Казанского Университета д-ром В. П. Первушиным, никаких уклонений от нормы не обнаружено.
Приводим затем следующие краткие выдержки из истории болезни:
15, 16 и 17/Х—никаких припадков.
23/Х. В 8 часов утра пульс 36 в 1, дыхание—20, t° -36,6. В 11½ часов утра пульс 22 в головокружение и резкая общая слабость; однако настоящего припадка не наблюдалось. В 1 час дня. пульс 36 в 1, общее состояние лучше. При исследовании артериального пульса наблюдается следующее, за период времени в 2—2½ минуты колебание частоты пульса от 23 — 27 до 36 ударов в минуту, причем при более медленном ритме сердца определяется несколько экстрасистол. При аускультации изменение звучности 1-го тона у верхушки сердца вплоть до его полного исчезновения, когда слышится лишь один систолический шум. Но наполнение лучевой артерии всегда одно и то же и не меняется. Резкое раздвоение 2-готона Haart, pulmonalis с акцентом па 2-м из раздвоенных тонов. Иногда и только при непосредственней аускультации—слышен третий добавочный тон сердца, то протодиастолический, то пресистолический.
24/Х. В течении нескольких минут наблюдался типичный pulsus- bigeminus при 32 ударах сердца и пульса в минуту.
25/Х. В течении нескольких минут—pulsus bigeminus при 24 ударах в 1,
28/Х. Пульс 28 в 1, дыхание—20, t°—36,2°. За веб время пребывания в клинике никаких припадков. Первый тон сердца стал более равномерным по своей силе. Пушечных тонов уже не слышно. Систолический шум стал несколько слабее.
30/Х. Пульс 36 в 1, дыхание - 24, t°—36,3°. Исследование крови дало следующие результаты: НЬ—92%, Е—5, 766, 500, L- 12,800, цветной коэффициент (Färbeindex)—0,8.
13/XI Пульс 40 в 1, дыхание - 20, t° 36,5°. Вечером больной чувствовал себя нехорошо, было головокружение, появилось чувство стеснения и тоска. Около 12 часов ночи больному стало настолько плохо, что он на несколько секунд потерял сознание. Были общие судороги всего тела клонического характера.
20/XI Пульс 36 в 1, дыхание—20, t°—36,1°, при аускультации сердца, особенно непосредственной, слышатся тритона сердца. Первый тон сердца все еще неодинаковой силы, однако „пушечных“ тонов уже не слышно. Систолический шум на верхушке сердца значительно ослабел и доносится как-бы издалека.
25/ХІ. Пульс 40 в 1, дыхание—20, t°—36,0°. Вечером больной принял теплую ванну, в которой просидел довольно долго. Ночью самочувствие было крайне плохое; был один припадок, длившийся несколько секунд. М. потерял сознание, но судорог не было.
26/ХІ. Пульс 38 в 1, дыхание -20, t°—36,3°. Больной ходил в город и сильно переутомился. Вечером около 8 часов М. потерял сознание на несколько секунд и упал. Судорог не было.
28/ХІ. Пульс 48 в 1, дыхание—20, t—36,4°. Определение кровяного давления по Riva-Rocci maximum 110 mm. и minimum— 40 mm
30/XI. Пульс 22 в 1, дыхание-22, t°—36,2°. За последние три- четыре дня—никаких припадков. Больной чувствует себя удовлетворительно, значительно лучше, чем до поступления в клинику. Улучшение выражается в том, что М. может дольше и быстрее ходить, не чувствуя одышки, может зараз больше есть и пить. Со стороны сердца наблюдается следующее; а) „пушечных“ тонов не слышно совершенно, в) систолический шум, слышимый на верхушке сердца и у грудины слева в 3-м и 4-м межреберьи, стал значительно глуше и доносится как-бы издалека; с) стойкa держится раздвоение второго тона, слышимое лучше всего на средине грудины и во 2-м левом межреберьи; д) первый тон сердца—неодинаковой силы и слышится то очень хорошо, то несколько глуше. Печень in statu quo. Со стороны легких и желудочно-кишечного тракта—никаких перемен.
2/XII Пульс 34 в 1, дыхание—20, t°—36,6°. В области верхушки сердца прощупывается двойной сердечный толчек. При выслушивании ритм сердца определяется то в три, то в два удара. Систолический шум на верхушке сердца значительно ослабел и слышится не при каждом первом ударе сердца.
4/XII. Пульс 40 в 1, дыхание—21. t°—36,3° Исследование мочи: суточное количество—2 литра, уд. вес—1,017, моча слабо-кислой реакции, соломенно-желтого цвета, совершенно прозрачна, белка, сахара, желчных пигментов и индикана не содержит; реакция на уробилин резко положительна. За последние дни никаких припадков, не было Самочувствие больного удовлетворительное.
5/ХІІ. Пульс 42 в 1, дыхание—22, t°—36,2°. При выслушивании сердца изредка констатируются экстрасистолы.
6/XII Пульс 36 в 1 дыхание—19, t°—36,4°. Ночь на 6/ХII больной провел крайне тревожно,—его мучило чувство стеснения в груди и какая-то тяжесть в голове; два раза за ночь больной терял на несколько секунд сознание. При исследовании обнаруживаются , частые экстрасистолы.
7/XII. Пульс 32 в 1, дыхание—18, t°—36.1°. Ночь на 7/ХІІ провел несколько спокойнее. Припадков не было. Констатируются постоянные экстрасистолы.
19/ХІІ Пульс 30 в 1. дыхание—21, t°—36,3°. Кровяное давление по Riva-Rocci—100 mm. maximum и 75 minimum. Самочувствие хорошее. Аппетит и сон удовлетворительны. За последние дни никаких припадков. При выслушивании сердца экстрасистол не обнаруживается. Констатируется лишь неравномерная сила первого тона сердца и—очень редко—добавочный третий тон, протодиастолический или пресистолический. Систолический шум почти: не слышен.
21/XII Пульс 32 в 11 дыхание 23, t°—36,5°. St. idem.
24/XII. Самочувствие хорошее. Больной может довольно много и долго ходить, хотя и медленным шагом, может есть поздно вечером перед сном, чего раньше делать не мог За последнее время никаких припадков.
В виду того, что у больного, судя по его анамнезу, был старый и очень »плохо леченный lues и в виду резко-положительной реакции Wassеrmаnn’а, больному 20/X было назначено специфическое лечение—внутримышечные иньекции через день 2°/0 sol. hydrargyri salicylici neutralis. Больной принял всего 20 ин’екций и под влиянием покоя, клинической обстановки и специфического лечения несколько поправился: исчезли припадки, и возросла запасная сила сердца. И исследование крови по Wassermann’y, произведенное 8/ХІІ, после окончания ртутного лечения, дало отрицательный результат. Чувствуя себя значительно поправившимся, М. 24/ХІІ 1920 г. выписался из клиники и поехал домой, в Чистопольский кантон. Дорогу (180 верст лошадьми) перенес благополучно: никаких припадков в дороге не было. Дома до 15/I 1921 г. М. чувствовал себя хорошо. Аппетит, сон и общее самочувствие были вполне удовлетворительны. Припадков до 15/I не было. Больной только не мог заниматься даже незначительной физической работой. После 15/I, считая себя здоровым, М. перестал соблюдать. предписанный ему режим, стал помногу зараз принимать пищу и начал делать очень продолжительные прогулки. Вскоре (около 20/I) у пего опять стали обнаруживаться ужо описанные выше припадки? наступлению которых предшествовало своеобразное ощущение сердечной тоски и чувство, как будто сердце останавливается и перестает биться. До возобновления припадков, т. е. го 20-х чисел января, пульс, по словам больного, был по прежнему очень редким и колебался между 30—32 ударами в минуту. После припадков пульс был около 40—42 ударов в 1. В январе припадки были лишь днем и очень быстро (через несколько секунд) прекращались. Частота их доходила до 15-20 за сутки. В феврале припадки стали наблюдаться и по ночам. Тогда, по нашему вызову, М. решился снова приехать в Казань для продолжения лечения и 24/III вновь поступил в клинику
При объективном исследовании, произведенном 25 —26/ІII, обнаружены были следующие изменения по сравнению с данными, добытыми при первом пребывании больного в клинике:
Абсолютная сердечная тупость стала несколько шире; так, левая граница ее была определена на 1 палец влево от соска (раньте она определялась по сосковой линии) При выслушивании сердца, особенно непосредственном, обнаружено следующее: 1) неровная сила первого тона сердца: то он слышится очень громким, то слабым, то нормальной силы; усиленные первые тоны слышатся очень часто, однако „пушечного“ тона уже не слышно; 2) иногда обычный для больного ритм в 2/4 сменяется ритмом в и тогда в начале или конце диастолы удается уловить третий тон сердца, то еле слышимый, то довольно громкий; 3) иногда к первому топу присоединяется негромкий систолический шум, лучше всего выслушиваемый на верхушке сердца; 4) на грудине и особенно во 2 м левом мѳжреберьи у грудины определяется ясное раздвоение второго тона с акцентом на втором из раздвоенных тонов. Со стороны органов дыхания и пищеварения, со стороны печени и селезенки— никаких новых изменений по сравнению с теми, которые были во время первого пребывания больного в клинике, не обнаружено. В моче, по прежнему, кроме резко положительной реакции на уробилин—ничего патологического. Со стороны нервной системы и органов чувств, как и раньше никаких патологических изменений нет. Реакция Wassеrmаnn’а, произведенная 25/III, дала опять резкоположительный результат (++++)
Приводим следующие краткие данные из истории болезни во время второго пребывания больного в клинике:
25/III Пульс 36 в Р, дыхание—19, t°—36.2°, вечером многочисленные, но очень кратковременные припадки затемнения сознания. Спал ночью плохо.
С 26/ІII по 2/IV припадков не было.
2/IV. Пульс 26 в 1, дыхание—18, t°—36,0°. Экстрасистол нет. Со стороны сердца—неравномерная сила первого тона у верхушки (однако „пушечного“ первого тона уже не слышно), резкое раздвоение второго тона на грудине и art. pulmonalis и небольшой акцент второго тона на art. pulmonalis. Добавочных тонов не слышно. Вечером и ночью 4—5 очень кратковременных припадков потери сознания без судорог.
3/ІѴ. Пульс 40 в 1, дыхание—20, t—36,2°. В течении дня 3—4 припадка. Один из них наблюдала фельдшерица, знакомая М., бывшая случайно во время припадка в палате больного. По ее словам, внезапно лицо последнего посинело, он упал на кровать и начал храпеть; появились судорожные подергивания мышц лица и туловища; дыхание во время припадка было глубокое. Припадок длился всего несколько секунд, так что фельдшерица не успела даже сосчитать пульс во время припадка; сам М. ничего не помнит.
4/ІѴ. Пульс 28 в 1, дыхание—18, t°—36,4°. В ночь и утром этого дня 2 припадка. Со стороны сердца—явления те же, что и 2/ІѴ, иногда—и только при непосредственной аускультации—удается обнаружить третий добавочный очень глухой тон сердца то в начале, то в конце диастолы.
6/IV. Пульс 40 в 1, дыхание—20, t°—36,5.° Вечером М. принял теплую (около 30° R.) ванну в течении 15 минут. Пульс тотчас после выхода из ванны 39 в 1’, без экстрасистол.
7/ІѴ. Пульс 30 в 1, дыхание—18, tº—36,0°. В ночь и утром этого дня 2 очень непродолжительных припадка с потерей сознания.
С 8/IV по 11/IV припадков не было
12/ІѴ. Пульс 24 в 1, дыхание—20, t°—36,1°. Исследование крови дало след, результаты: НЬ —105%, Е —5,733,000, L—6,500, цветной коэффициент—0,9, лейкоцитарная формула без уклонений от нормы.
17/ІѴ. Пульс 24 в 1, дыхание-20, t°—36 о°. Границы абсолютной сердечной тупости-верхняя на 3-м ребре, правая—на 1— 1½ пальна вправо от lin. sternalis dextra, левая—на 1 палец влево от соска. Сердечный толчок, слабо выраженный, в 5-м межреберьи по сосковой линии. Систолического шума не слышно. Неравенство по силе первого тона сердца, определяемое как на верхушке сердца, так и на грудине. Резкое раздвоение второго тона, небольшой акцент второго тона на art. pnlmonalis. Экстрасистол не заметно. Небольшой выдох над правой легочной верхушкой.
25/ІѴ. Пульс 42 в 1, без экстрасистол, дыхание—20, t°—36,0°. Утром 2 очень непродолжительных припадка
26/ІѴ. В ночь на это число очень частые (до 8—10), быстро протекавшие припадки, утром 2 припадка. Пульс 44—46 в 1, без аритмии.
27/ІѴ. Пульс 36 в 1 без аритмии, дыхание—20, t°- 36,2. Утром один легкий припадок. Исследование крови дало след, результаты: НЬ—106%,Е —6,230,000, L - 7,400, цв. коэффициент—0,9, лейкоцитарная формула в пределах нормы.
5/Ѵ. За последнюю неделю никаких припадков; t—36,1°,дыхание—24 в 1, пульс—30 в 1, с 2—3 за этот период экстрасистолами. Эти экстрасистолы не дают явственного пульса на art radialis.
8/Ѵ. Пульс 30 в 1, дыхание—24, t°—36,3° При аускультации сердца обнаруживается следующее: 1) неравенство по силе первого тона, который то слышится очень громким, то—нормальной силы, то очень тихим; 2) иногда первый тон заканчивается непостоянным систолическим шумом; 3) изредка и лишь в течении очень короткого срока слышится тотчас перед первым тоном очень глухой пресистолический тон,—и в этих случаях ритм сердца идет на 3/4; 4) резкое раздвоение втор эго тона на грудине и art. pulmmalis.
15/Ѵ. Пульс и дыхание—24 в 1, t°—36,0°. За последнее время никаких припадков. При непосредственной аускультации сердца иногда удается уловить третий прибавочный, очень глухой тон в средине между систолой и диастолой. По прежнему резкое раздвоение 2-го тона, особенно на art. pulmonalis.
23/Ѵ. Пульс 26 в 1, дыхание—20, t°—36,5°. Исследование мочи: суточное количество—1900 куб. сант., уд. вес-1,015, моча слабокислой реакции, совершенно прозрачна, соломенно-желтого цвета, белка, сахара, желчных пигментов и индикана не содержит, реакция Schlesinger’a на уробилин резко положительна, осадка нет. Реакция W asse rm anna резко-положительна (++++).
30/Ѵ. Пульс и дыхание—24 в 1, t°- 36,3°. Кровяное давление по Riva-Rocci 125 mm. maximum, 75 mm. minimum.
3/VI. Пульс 24 в 1, дыхание—20, t°—36,1°. За последнее время припадков не было. При непосредственном выслушивании сердца констатируется: 1) неравномерная сила первого тона сердца— от очень глухого до довольно сильного, однако первого „пушечного тона уже не слышно; 2) раздвоение 2 го тона, особенно на art. pulmonalis; 3) в 3-м и 4-м левом межреберьи у грудины выслушивается при лежачем положении больного в конце выдыхания и в начале вдоха третий добавочный, очень глухой тон в периоде большой паузы и ближе к первому тону. Ритм сердца, как и при предсистоличѳском галопе, есть амфибрахий
8/ѴІ. Пульс 26 в 1, дыхание—20, t°—36,1°. Реакция Wassermann’а резко-положительна (++++)
14/ѴІ. Пульс 28 в 1, дыхание—18, t°—36,2°. Реакция Wassermann’a резко-положительна (++++) Самочувствие удовлетворительное. При непосредственной аускультации сердца в лежачем положении больного ясно выслушивается третий, очень глухой пресиcтолический тон.
16/ѴІ. Пульс 26 в 1, дыхание -20, t°—36,3°. Небольшой асцит. Границы абсолютной сердечной тупости: верхняя на 3-м ребре, правая--на 1 палец не доходит до правого соска, левая на 2 пальца влево от левого соска. Систолический дующий шум на верхушке сердца, резкое сосудистое раздвоение 2-го тона и третий очень глухой пресистолический шум. Суточное количество мочи—800 куб. сант.
20/ѴІ. Пульс 28 в 1, дыхание—20, tº—36,0". Асцит стал несколько меньше. Систолический шум на верхушке сердца исчез. Суточное количество мочи возросло до 1½ литров.
Ввиду резко положительной реакции Wassermanna при исследовании крови 25/III 1921 г., больному 2/ѴІ было введено в вену 0,45 novoarsenobenzol’a Billon’a, и вскоре после введения сделано 20 иньекций 2% sol. hydrargyri salicylic! neutr. Несмотря на это лечение,реакцияWassermann’a 25/V оказалась опять резко-положительной (++++), и 27/Ѵ больному было назначено 4%. sol kalii jodati, 3—4 столовых ложки в день; но это лекарство через 2 дня пришлось отменить вследствие наступления у больного- явлений иодизма. 30/Ѵ больному введено внутривенно 0,75 nоѵоаr- senobenzol’a Вillоn’a. Реакция Wassеrmаnn’а, произведенная 8/ѴІ, оказалось, однако, опять резко-положительной (++++). На. конец. 12/ѴІ снова было введено в вену 0,75 novoarsenobenzol’a Billon’a, h все же реакция Wassermann’а, произведенная 14/ѴІ. осталась резко-положительной.
В виду закрытия клиники на каникулярное время М. 21/ѴI выписался и уехал домой.
Перейдем теперь к разбору нашего больного. Как видно из. только что приведенной истории болезни, существенные патологические явления у него сводятся к 4 следующим: 1) постоянный, очень редкий артериальный пульс, 2) видимая уже на глаз пульсация шейных вен, более частая, чем артериальный пульс, 3) своеобразные припадки и 4) целый ряд патологических явлений со стороны сердца.
Постоянный, очень редкий артериальный пульс, более частый и не совпадающий с артериальным венный пульс и своеобразные припадки—эпилептиформные или апоплектиформные,—как известно (3, 4, 5 и 6), составляют триаду, необходимую и обязательную для симптомокомплекса Могgagni-Aclams-Stоkesa. Этот сим- птомокомплекс, именно, его бульбарный тип, впервые был описан еще Morgagni в средине XVIII века; позднее ирландские клиницисты Adams и Stokes, независимо от Могgagпі, дополнили исследование этого симптомокомплекса и описали второй его тип—кардиогенный (Плетнев, 3).
Чтобы понять сущность этого симптомокомплекса и ближе подойти к решению вопроса о патолого-анатомической подкладке данного случая, нам пришлось обратиться к изучению венного пульса, и электрокардиограммы нашего больного. Первую часть задачи мы выполнили самостоятельно, электрокардиограмма же было получена, профессором физиологии Казанского Университета А. Ф. Самойловым).
Предсердный или отрицательный венный пульс, как известно (7, 8), состоит из ряда волн, главными и наиболее изученными из которых являются: 1) волна ц, являющаяся результатом сокращения правого предсердия и, следовательно, патогномоничная для систолы предсердий, 2) волна с, передающаяся от пульсации лежащей в ближайшем соседстве с внутренней яремной веной arteriae carotis и, следовательно, патогномоничная для систолы желудочков и 5) третья волна, невсегда ясно выраженная и зависящая от накопления крови в предсердиях во время систолы желудочков
В нормальном предсердном венном пульсе волна а всегда предшествует волне с, и расстояние от а до с на флебограмме пормальпого человека никогда не превышает 0,2 секунды.
Считаем приятным долгом выразить здесь свою глубокую благодарность , как самому проф. А. Ф. Самойлову, так и его помощникам И. А. Ветохинуи В. И. Башмакову за их многочисленные ценные указания, касающиеся, разбора электрокардиограммы и флебограммы нашего больного.
В названии зубцов венного пульса и в их интерпретации мы придерживаемся взгляда Mackenzie (7, 8).
На сфигмофлебограммах нашего больного можно было видеть следующее: 1) волны а, являющиеся выражением сокращения предсердий, следовали вполне ритмично по отношению друг к другу, и их на сфигмсфлебограммах было от 56 до 85 в 1, тогда как частота артериального пульса па тех же сфигмофлебограммах была 27—28 ударов в 1; 2) взаимоотношение волн а и с, т. е. отношение по времени систолы предсердий к систоле желудочков, было крайне изменчиво,—то оно было нормальным, и волна а предшествовала волне с, отстоя от нее на расстоянии не более 0,2 секунды, то волна а начинала постепенно приближаться и сливаться с волной с в последнем случае расстояние от а до с равнялось нулю, т, е. мы имели одновременное сокращение предсердий и желудочков,—и в этом случае комбинированная волна а+с являлась на флебограмме очень высокой, вследствие того, что кровь, не имея возможности излиться при систоле предсердий в желудочки, тоже сокращавшиеся в этот момент, вся устремлялась вверх и вызывала большое набухание шейных вен; иногда расстояние от волны а до волны с равнялось безконечности, т. е. за волной а следовала не с, а новая волна а; это значит, что сокращение предсердий не сопровождалось, как в норме, сокращением желудочков, а за систолой предсердий шла новая систола предсердий; 3) на одной из сфигмофлебограмм можно было видеть несколько экстрасистол; экстрасистолы эти—желудочковые, так как давали на флебограмме всего один зубец с который находился на таком же расстоянии от предшествующаго зубца с, как начало экстрасистолического подъёма на кривой радиального пульса отстояло от начала предшествующего нормального подъёма радиального пульса; экстрасистолы, как то всегда бывает в случаях полной поперечной диссоциации сердца, никогда не сопровождались компенсаторной паузой (9, 10).
Таким образом разбор сфигмофлебограммы нашего больного, с одной стороны, подкреплял наше, добытое невооруженным глазом, очень ценное для диагноза наблюдение о несоответствии по числу сокращений предсердий (пульс яремных вен) и желудочков (радиальный пульс), т. е. доказывал, что мы имели у нашего больного не истинную брадикардию, а лишь дисритмию с брадисистолией одних только желудочков при нормальной частоте сокращений предсердий; с другой стороны, этот разбор давал нам право говорить об имевшемся у нашего больного полном Herzblok’e, или полной поперечной диссоциации сердца,—явлении, ври котором нормальный импульс сокращения сердца, рождающийся в правом предсердии в узле Кеith-F1асk’a блокируется в His’obckom пучке, не переходя на желудочки, и предсердия сокращаются своим нормальным ритмом, а желудочки—своим, более медленным. В самом деле, на сфигмофлебограммах нашего больного расстояния от зубца а до следующаго зубца а всюду й совершенно были одинаковы, и зубцов а на флебограммах было от 56 до 85 в 1. Значит, предсердия сокращались вполне ритмично по отношению друг к другу с частотой от 56 до 85 в 1. Интервал от зубца с до следующего зубца с также был всюду одинаков, и зубцов с на сфигмофлебограммах было 27—28 в 1. С другой стороны расстояние от зубца а до зубца с, или расстоянге между сокращением предсердий и желудочков, было у нашего больного крайне изменчиво по своей величине и колебалось от нуля до бесконечности, т. е. зубец а иногда сливался с последующим зубцом с, или же после зубца а следовал новый зубец а. Значит, систола предсердий у нашего больного не вызывала за собой, как в норме, систолы желудочков, а могла сливаться с ней, или же за систолой предсердий следовала новая систола предсердий. Такое наслаивание предсердного зубца а на разные фазы желудочкового зубца с при полном сохранении ритма как предсердий, так и желудочков, как известно (1), характерно и патогномонично для полной поперчной диссоциации сердца и дает нам полное право исключить здесь одно лишь понижение проводимости импульса и говорить о двух самостоятельных интерферирующих между собою ритмах—ритме предсердий и ритме желудочков, пли о полном Herzblok’e.
Изучение электрокардиограммы нашего больного, подкрепляя правильность нашего чтения его сфигмофлебограмм, давало нам и патолого-анатомический диагноз нашего случая. Как известно (11,12), нормальная электрокардиограмма состоит из ряда зубцов P Q RS Т, причем зубец Р есть, так сказать, электрический эквивалент сокращения предсердий, а комплекс зубцов непостоянных Q и S и всегда хорошо выраженных R и Т есть электрический эквивалент сокращения желудочков. Там, где есть зубец Р, есть и сокращение предсердий. Нет зубца Р,—пет и сокращения предсердий. Сказанное справедливо и по отношению к комплексу зубцов Q R ST, как к непременному и обязательному электрическому эквиваленту сокращений желудочков. Кроме того, расстояние от Р до R, по Wenkebach’ у (9), даже при замедленной проводимости импульса никогда на электрокардиограмме не превышает 0,25 секунды. На электрокардиограммах нашего больного, снятых 16/XI 1920 г. и 5/1V 1921 г., мы видели следующее:
- Число зубцов Р—7 0 и 7 2 в 1, а число комплекса зубцов QRST—32 и 41 в Г. Значит, у нашего больного имела место дисритмия с брадисистолией желудочков и нормосистолией предсердий.
- Расстояние между двумя смежными зубцами Р, а равно и между двумя смежными комплексами зубцов QRST всюду было одинаково. Значит, у больного существовал отдельный ритм предсердий с частотой в 70/И 72 сокращения в 1 и отдельный ритм желудочков с частотой в 32 и 41 удар в 1.
- Расстояние, от Р до R было крайне изменчиво: то это было нормально и не превышало 0,25 секунды, то Р сливался с R, то Р наслаивался на ту или иную фазу зубцов S или Т. Довольно часто за Р следовал новый зубец Р. Значит, систола предсердий, ритмичная сама по себе, приходилась на разные фазы систолы желудочков, тоже ритмичной. Ergo, в данном случае было не понижение проводимости импульса с выпадением отдельных систол желудочков, но два самостоятельных ритма, ритм предсердий и более медленный ритм желудочков, причем эти два ритма самым причудливым образом интерферировали между собою.
- На электрокардиограммах можно было подметить несколько экстрасистол, возникавших в правом желудочке. Эти экстрасистолы давали небольшую волну на радиальном пульсе и, как то всегда
бывает в случаях с полной поперечной диссоциацией сердца компенсаторной паузой не сопровождались (10). Правильный, приближающийся к норме вид всех зубцов электрокардиограммы это обстоятельство, что такого вида электрокардиограмма получена Егlanger’oM (9) экспериментально па животных при полном прижатии пучка HisTаwаг а ниже узла Aschoff-Tawara и еще до разветвления этого пучка па отдельные ножки, давали нам возможность поставить очень топкий анатомический диагноз у нашего больного. Можно утверждать, что у последнего было органическое поражение His’oвскоro пучка,—вероятно, на уровне ниже узла Aschoff-Tawara и еще выше деления этого пучка на правую и левую ножки).
Что касается сердечных припадков с потерей сознания и судорогами, наблюдавшихся у нашего больного, то подобного рода припадки, как это предполагал еще Morgagni, зависят от наступающей при условиях, предъявляющих к больному сердцу повышенные требования (напр., под влиянием движения или волнения), временной ишемии мозга. Позднейшие исследования KussmauTa и Теnnеr’а с одной стороны и Naunin’a—с другой вполне подтверждают предположение Morgagni. Так, Кussmаul’ю н Tenner’у удалось в опытах на животных вызывать у них обморочное состояние и судороги всего тела перевязкой обоих каротид и аа. vertebrales. Nauninу 2 аргериосклеротиков вызывал путем пальцевого прижатия обоих каротид на шее припадки, выражавшиеся в наступлении обморока, замедлении пульса и судорогах всех конечностей (3).
Перейдем теперь к анализу звуковых явлений, полученных при выслушивании сердца нашего больного. Считая очень ценным и в высшей степени важным предложение проф. Образцова выслушивать сердце и стетоскопом, и непосредственно ухом (19,20) и имея под руками прекрасные статьи Н. Д. Стражеско (21,22), мы задались целью,—с одной стороны посмотреть, что нового и ценного дает нам непосредственная аускультация сердца ухом по сравнению с обычной аускультацией сердца стетоскопом и, с другой стороны, проверить на нашем больном правильность анализа звуковых явлений при болезни AdamsStokes’a, данного Стражеско. Как видно из приведенной истории болезни, у нашего больного в разное время его пребывания в клинике нами наблюдались: 1) очень громкий „пушечный“ первый тон сердца, 2) неравномерная сила первого тона от очень слабого до „пушечного“ со всевозможными переходами, 3) раздвоение 2 го тона у основания сердца и особенно на art. pulmonalis, 4) ритм в причем третий добавочный тон сердца, то более сильный, то очень слабый, приходился то в начале, то в конце большой паузы и, следовательно, был то протодиастолическим, то предсисголическим, и 5) систолический шум у верхушки сердца различной силы, продолжительности и постоянства. Все эти акустические явления со стороны сердца могли быть констатированы главным образом при непосредственной аускультации сердца и во всей своей полноте и в самых различных комбинациях между собою наблюдались лишь ш первые две-три недели первого пребывания больного в клинике. Всякий раз, когда мы выслушивали сердце вашего больного через стетоскоп, мы не слышали ничего особенного, кроме неравномерной силы первого тона, резкого раздвоения 2-го тона, особенно на art. pulmonalis, и непостоянного систолического шума на верхушке сердца. Никогда через стетоскоп нам не удавалось определить ни первых „пушечных“ тонов, ни тонов добавочных в то время, как при непосредственной аускультации эти тоны улавливались без особого труда, и своеобразная мелодия сердечного боя, которую Н. Д- Стражеско считает очень характерной и до известной степени даже г патогномоничной для чистых случаев кардиогенной формы болезни Adams-Stokes’a, при аускультации стетоскопом, в нашем случае, по крайней мере, не могла быть констатируема. И мы вполне присоединяемся к мнению проф. В. П. Образцова о необходимости выслушивать сердце, помимо аускультации через стетоскоп, еще и непосредственно ухом, а для случаев симптомокомплекса Morgagni - Adams-Stokes’a считаем непосредственную аускультацию сердца обязательной для клинически-образованного терапевта.
Что касается первого, очень громкого, „пушечного“ тона сердца, то он, по объяснению Стражеско (2 и 22), принимаемому и Плетневым (3), зависит при симптомокомплексе Morgagni-Adams-Stokes’a от совпадения систолы предсердий с самым началом систолы желудочков и происходит, с одной стороны, вследствие более энергичного сокращения мускулатуры предсердий, стремящихся прогнать кровь в сокращающиеся в тот же самый момент желудочки, с другой стороны, в образовании „пушечного “ тона играет видную роль и усиленное колебание и напряжение створок, закрывающих оба антриовентрикулярные отверстия, так как эти створки находятся в момент совпадения систолы предсердий с началом систолы желудочков под напором двух взаимно-противоположных токов крови из предсердий в желудочки и обратно. Желудочки в смысле усиления сокращения их мускулатуры, по-видимому, не играют роли в образовании „пушечного“ тона, так как высота волны на сфигмограмме при „пушечных“ тонах не превышает обычную для каждого данного случая, данного времени и данных условий съёмки пульса величину. Усиленно; сокращение мускулатуры предсердий в момент образования „пушечных“ тонов вызывает, с одной стороны, усиленное сотрясение прекордиальной области, иногда обнаруживаемое на кардиограмме появлением в самом начале ее восходящего колена особого зубца, а е другой стороны вызывает появление на флебограмме очень большого зубца а-\-с, Этот последний зависит от того, что кровь из предсердии, не имея возможности вылиться в сокращающиеся в тот же самый момент желудочки, вся устремляется в полые вены и очень значительно растягивает яремную вену, что и дает на флебограмме большую волну а+с.
Таково очень стройное, вполне последовательное объяснение возникновения „пушечных“ тонов, объяснение, построенное на параллельном изучении кардиосфигмо и флебограммы и покоющееся на твердом фундаменте—стремлении связать звуковые явления при „пушечных“ тонах с чисто-физическими условиями одновременного сокращения предсердий и желудочков. Но это объяснение Стражеско, поддерживаемое и Плетневым, по нашему мнению, нуждается во всяком случае в некоторых дополнениях. Так, и в русской, и в иностранной журнальной литературе описано немало хорошо прослеженных случаев полной поперечной диссоциации сердца, где за всё время болезни ни разу не наблюдалось „пушечных“ тонов (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31). И самим нам за три года пришлось наблюдать в Факультетской Терапевтической клинике, кроме описываемого, еще два случая симптомокомплекса Morgagni-Adams-Stoke s’a (один из них подтвержден аутопсией), где ни разу за всё время пребывания обоих больных в клинике нам не удалось слышать „пушечных“ тонов. Мало того y вашего больного первый „пушечный тон, совершенно явственно констатированный в первые 2—неделя его первого пребывания в клинике, потом исчез и больше не был слышен ни разу, несмотря на то, что многократно снятые электрокардиограммы, этот „наилучший способ исследования для человеческого сердца“, по выражению К. Wenkelbach’a, и сфигмофлебограмма с период отсутствия пушечных“ томе показывали нам места, где имелось полное совпадение систолы предсердий с началом систолы желудочков, Очевидно, что для возникновения „пушечных“ типов, кроме условий, указываемых Стражеско, необходим еще какой-то другой ж. В чем заключается это еще неизвестное, но необходимое для возникновения „пушечного“ топа условие в физических- ли, свойствах самой мускулатуры Сердца (известная степень эластичности и целости, дающая возможность производить при более энергичном сокращении более громкий звук), или в свойствах тех или иных заслонок сердца, или закрываемых ими отверстий (безусловная целость или, быть может, известная высокая степень со крайности и полная функциональная достаточность клапанного аппарата сердца) мы пока "Сказать не можем, т. м более, что и литературные указания на этот счет нам неизвестны.
Неравномерная сила первого тона сердца, т. е. различны степени усиления основного первого тона, по всей вероятности, в акустическом отношении у нашего больного очень слабого вследствие миокардита,- хорошо об’ясняется по Стражеско наслоением сокращений предсердий па ту или иную фазу систолы желудочков, лежашую немного раньше или несколько позже момента появления первого тона сердца, но не на самое начало систолы желудочков (в последнем случае мы имели бы первый „пушечный“ тон). В самом деле, чтобы первый тон стал более звучным, необходимо и достаточно, чтобы к его, так сказать, физиологической основе (сокращение мышц желудочков, напряжение клапанов обоих атриовентрикулярных отверстий и напряжение полулунных клапанов аорты и art. pulmonalis) присоединилось еще лишь немного раньше или немного спустя сокращение предсердий. Расстояние между систолой предсердий и началом систолы желудочков должно быть не особенно велико, так как в противном случае мы получили-бы уже раздвоение первого тона пресистолического или систолического характера. Уже один взгляд на полученные в данном случае электрокардиограммы и сфигмофлебограммы показывал, что такое приближение систолы предсердий к началу систолы желудочков у нашего больного существовало.
Раздвоение второго тона у нашего больного, постоянно констатируемое как при непосредственной аускультации, так и при аускультации стетоскопом, представляло ту особенность, что оба из раздвоенных тонов воспринимались нами акустически, как совершенно одинаковые по силе, характеру и продолжительности, Кроме того и расстояние между этими двумя раздвоенными тонами за всё время наблюдения больного казалось нам всегда приблизительно одинаковым. Всё это, взятое вместе, не позволяет нам присоединиться к мнению Стражеско, по которому вторая половина раздвоенного второго тона является результатом систолы предсердий, происходящей вскоре после того, как прозвучал второй тон сердца, и заставляет думать, что здесь мы имели дело с сосудистым раздвоением второго тона, зависевшим от неодновременного напряжения клапанов аорты и легочной артерии,, встречающимся, по Potain’y, иногда и у людей с совершенно здоровым сердцем.
Ритм в 3/4 с третьим тоном сердца то протодиастолическим, то предсистолическим, наблюдавшийся у нашего больного довольно часто или на ряду с обычным для него двухчленным ритмом, или же на известное время вполне вытеснявший этот последний, нормальный ритм, хорошо объясняется совпадением систолы предсердий с началом или концом большой паузы, что хорошо иллюстрировалось электрокардиограммами и сфигмофлебограммами
Наконец, непостоянный, разной силы и продолжительности систолический шум у верхушки сердца нашего больного объясняется, вероятнее всего, недостаточностью папиллярных мышц сердца и, быть может, относительной недостаточностью левого венозного отверстия.
Мы имели у нашего больного полную поперечную диссоциацию сердца (Herzblock) с явлениями симптомокомплекса Morgagni- Adams-Stokes’a. Возникает естественно вопрос: с какой формой симптомокомплекса Morgagni-Adams-Stokes’a,— бульбарной, или кардиогенной,—мы имели здесь дело. Резкие патологические явления со стороны сердца у нашего больного, наличность определенной этиологии (lues, алкоголизм) и отсутствие каких- либо патологических изменений со стороны нервной системы дают нам полное право утверждать, что здесь имела место чисто-кардиогенная форма симптомокомплекса Morgagni-Adams-Stokes’a. В пользу такого утверждения говорят и результаты двух опытов со впрыскиванием атропина. 21/ХІ 1920 г. в 11 часов утра, при радиальном пульсе в 38 ударов в 1, больному М. было введено подкожно 0,001 atropini sulfurici. Пульс в 11 ½ часов утра был 39 в 1, в 12 час. 40, в 12 ½часов дня—38, в 1 час дня—36 и в 3 часа дня—36. Опыт с атропином, но уже под контролем сфигмофлебограммами, был нами повторен 10/ІІІ 1921 года, когда больному было введено подкожно 0,0015 atropini sul- fiirici. Больной перенес это второе введение атропина плохо: через 15 минут после впрыскивания наступила сухость во рту и резкое расширение зрачков, каковое расширение держалось около суток. Через 4 часа после введения стало сохнуть во рту, наступила резкая общая слабость и сонливость. Моча стала выделяться по каплям. Все эти неприятные проявления прошли бесследно через сутки. Как можно было видеть из полученных сфигмофлебограммами, под влиянием атропина не наступило никакого учащения артериального пульса, а венный пульс участился с 60 до опыта до 75 и 85 через 5 и 10 после введения атропина. Отсутствие учащения артериального пульса resp. систолы желудочков после впрыскивания атропина дает нам, по Dеltіо (32, 33 и 34), полное право подключить здесь чисто нервную (в зависимости от раздражения того или иного участка n. vagi) природу наблюдавшейся нашего больного дистимии с брадисистолией желудочков и еоipso дает лишнее подтверждение уже высказанному нами положению, что в данном случае существовала чисто-кардиогенная форма симптомокомплекса Morgagni-Adams-Stokes’a.
Заканчивая разбор нашего случая, мы хотели-бы сказать еще несколько слов о влиянии на нашего больного подкожных иньекций 1% sol. adrenalini hydrochlorici Takamine в дозе 0,5 куб. сантим. Адреналин в указанной дозе давал больному,—правда, па коротко? время, состояние эйфории, зависевшей, вероятно, от улучшения кровообращения, в самом сердце вследствие расширения его коронарных артерий, по сколько-нибудь заметного влияния на час тогу артериального и венного пульса, по-видимому, не оказывал, как это видно из приводимой ноже таблицы опытов с адреналином.
Кривая № 2 до введения атропина. Артериальный пульс=27 в 1'. Венный пульс=60 в 1'.
Кривая Nb 3 через 5'после введения атропина. Артериальный пульс=28 в 1'. Венный пульс=75 в 1'.
Кривая № 4 через 10' после введения атропина. Артериал. пульс (внизу)—27 в 1' Венный пульс (вверху)
—83 в 1'.
Кривая № 5 через 25'после введения атропина. Артериал. пульс (внизу)=27 в V. Венный пульс (вверху )=69 в Г.
Кривая N8 1. ЭК Желудочковые экстрасистовы. Артериальный пульс = 27 в Г Венный пульс п== 56 в 1’
Электрокардиограмма № 1. б-го М. 16—20 г. II отведение кривая № б
Электрокардиограмма № 2 Больной М. 5/'v-21 г. I отведение кривая № 7.
Итак, мы имели здесь полный Herzblock или полную поперечную диссоциацию сердца с явлениями симптомокомплекса Моrgagnі - Adams - Stokes’a. Болезненный процесс поразил Ніs’овский пучок,—вероятно, ниже узла Asсhоff- Т awarа и выше разделения пучка на правую и левую ножки. Возникает естественно вопрос, какого рода этот болезненный процесс.
Таблица опытов с эдреналином
Месяц и число | Число ударов артериального и венозного (в скобках) пульса до введения адреналина | Тоже через 5 после введения адреналина | Тоже-через10 | Тоже-через 15 | Тоже-через 20 | Тоже-через 25 | Тоже-через 35 | Примечание |
1921г. |
|
|
|
|
|
|
| Во всех трех опытах было введено по 0,5 куб.сант 7% sol..sdrenalini hudrochlorici Parke-Dawis. Счет артериального И венозного Пульса измерения водился путем измерения сфигмофлебограмм, полученных, как и все наши кривые полиграфом Jaquet |
19/IV | 30(75) | - | 30(75) | 33(75) | 33(75) | - | 35(77) | |
7/V | 26(58) | 27(52) | 28(60) | 28(60) | 28(60) | 27(56) | - | |
10/V | 81(70) | 27(71) | 30(71) | 30(72) | 30(72) | 29(70) | - |
Как известно из литературных данных, чаще всего в этиологии симптомокомплекса Morgagni-Adams-Stokes’a имеет место сифилитический процесс. Возможно, что и у нашего больного имел место lues’cordis, но категорически утверждать это мы не можем. Ведь больному 40 лет, он—хронический алкоголик и многолетний курильщик. Следовательно, у него существовали на лицо и другие этиологические моменты, которые могли иметь своим последствием развитие склеротических процессов в сосудах сердца, развитие миокардита и, в конечном результате, неспецифическое поражение Ніs’овского пучка. С тем большей осторожностью мы должны говорить о lues’e cordis, что два полных курса лечения ртутью и три вливания novoarsenobenzol'a, значительно улучшив состояние вашего больного, всё же не произвели у него разрыва сердечного блока. Возможно, что патологический процесс, поразивший Hіs’овский пучок у нашего больного, есть стойкий сифилитический рубец, или вульгарный миокардитический процесс, или комбинация того и другого, но едва-ли это—гумма.
Номенклатура зубцов приводится по Einthovery
Мы не останавливаемся ни на более тонких деталях электрокардиограммы нашего больного (почти всегда расщепленный и несколько увеличенный зубец S и др.), ни на различных теориях электрокардиограммы, так как оба эти вопроса окончательно еще не решены. Интересующиеся могут найти некоторые указания на этот счет в статьях Яновского (13), Усова (14), Лепорского (15), Губергица (16), 3еленина (17) и Nісоlаі (18).
Список литературы
- Стражеско. К вопросу о болезни Аdams-Stоkеsa Русский Врач. 1906, № 20 и 21.
- P1еtnew. Der Могgagnі-Аdаms-Stоkes’sche Symptomenkomplex. Ergeb¬nisse für inn. Medizin und Kinderheilkunde, Band 1.
- Hue ha rd. Maladies du coeur. Artériosclérose. 1910
- Rоmberg. Болезни сердца и сосудов. 1912.
- Külbs. Болезни сердца и кровеносных сосудов 1916.
- James Mackenzie. Die Lehre vom Puls. 1904.
- Он же. Болезни сердца. 1911.
- Зеленин. Болезни сердца, характеризующиеся расстроенным ритмом. 1915.
- Любенецкий. К вопросу о связи между предсердиями и желудочками сердца млекопитающих. 1909.
- Кгаus und Nicolai. Das Electrokardiog- ramm dts gesunden und kranken Menschen. 1910.
- Зеленин. Из¬менение электрокардиограммы под влиянием фармакологических средств группы дигиталина 1911.
- Яновский. Электрокарди¬ография. Врачеб. Газета, 1910, № 13.
- Усов. Клинические на¬блюдения над электрокардиограммой. Прак. Врач, 1910, № № 38, 39 и 40.
- Лепорский. К вопросу о фибрилляции предсердий при полном сердечном блоке с аутоматиѳй желудочков (явление Frede¬ric quea у человека). Рус. Врач, 1916, №№ 3, 4 и 6.
- Губергриц. Физиологические основы электрокардиографии и ее клиническое значение. Рус Врач, 1917, №№ 10 и 13.
- Зеленин Электродиагностика сердечных заболеваний. Новое в медицине 1913, №№ 7 и 15.
- Nicolai. Сердечные аритмии. Современная Клиника и Терапия, 1912, № 11.
- Образцов. О нахождении сердечного галопа при непосредственном выслушивании сердца Врач, 1900, № 23.
- Он же. О раздвоенные и прибавочных тонах сердца при непосредственном его выслушивании. Р. Врач 1903, № 34. 21 и
- Стражеско. О мелодии сердца при болезни А dams-Sto kes’a. Р. Врач, 1908, №№ 14 и 15.
- Давыдов Случай болезни Adаms-Stоkes'a с явлениями атриовентрикуляр¬ной аритмии (Herzblock а). Мед. Обозрение, 1906. № 4.
- Нефедов. Случай болезни Adams-Stoke s'a. Военно Медиц. Журнал, 1910, кн. 10.
- Кушев. Болезнь Adams-Stоkes’a. Врачебная Газета, 1908, № 50.
- Зеленин. Клинические лекции. 1917;
- Бродский. К вопросу о болезни Adams-Stoke s’a. Новое в медицине, 1914, № 3.
- Шварцман. Случай сердечного блока с припадочным дрожанием предсердий. Русский Врач, 1915. № 26.
- Лепорский. Явление Frederic quea у человека с припадками AdamsStоkesʹовской болезни. Русский Врач, 1907, №№ 8 и 9. L. Husmans. Über Bradycardie und den Stokes- Adam s sehen Symptomenkomplex. München, med. Wochenschrift, 1909, №.11.
- C. Handwerk. Adams-Stokes'scher Syïnptomen- komplex. Gumma des Vorhofsseptum. . München medizin. Wochenschrift, 1909, №
- K. Dehio. Über Bradycardie und die Wirkung des Atropin auf das gesunde und kranke menschliche Herz. Petersb. medic. Wochenschrift, 1892
- Он же. Über die Bradycardie der Reconvalescenten. Deutsches Archiv für klinische Medicin, Bd. 52.
- Он же. Über den Einfluss des Atropin auf die arythmische Herztätigkeit. Deutsches Archiv für klinische Medicin, Bd. 52.
Дополнительные файлы