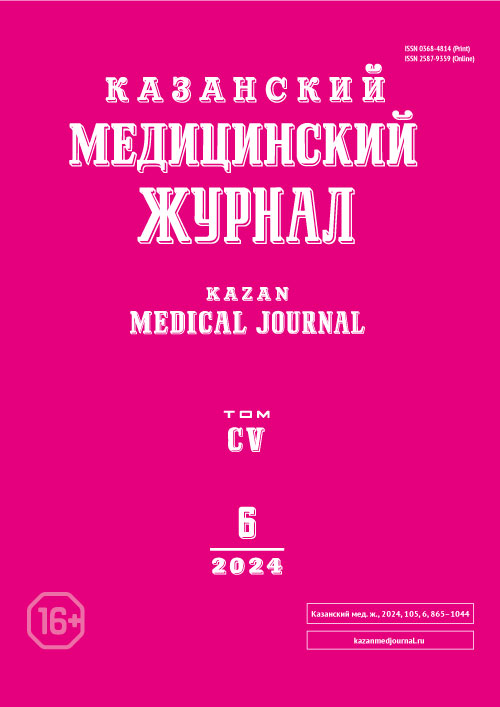Концепция острой болезни почек и её место в почечном континууме
- Авторы: Сахаров В.С.1, Мензоров М.В.1,2, Денисова А.Ю.2, Керимова С.Ф.2, Матюшина В.В.2
-
Учреждения:
- Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова
- Ульяновский государственный университет
- Выпуск: Том 105, № 6 (2024)
- Страницы: 994-1002
- Раздел: Обзоры
- Статья получена: 25.03.2024
- Статья одобрена: 15.08.2024
- Статья опубликована: 27.11.2024
- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/629301
- DOI: https://doi.org/10.17816/KMJ629301
- ID: 629301
Цитировать
Аннотация
В работе рассмотрена концепция острой болезни почек — относительно нового понятия в клинической медицине, внедрение которого обусловлено наличием заболеваний почек, которые не удовлетворяют строгим критериям острого повреждения почек или хронической болезни почек. В статье приведены критерии, стратификация тяжести острой болезни почек, предложенные фондом Kidney Disease: Improving Global Outcomes, интерпретация критериев и стратификации тяжести Научным обществом нефрологов России, ассоциациями нефрологов и анестезиологов-реаниматологов России, Национальным обществом специалистов в области гемафереза и экстракорпоральной гемокоррекции в соответствии с классификационной системой группы Acute Dialysis Quality Initiative. Обозначена роль острой болезни почек в современном почечном континууме. Рассмотрены результаты исследований острой болезни почек у пациентов с септическим шоком, пациентов, перенёсших тотальное эндопротезирование суставов, перенёсших инфаркт миокарда с подъёмом сегмента ST и имеющих острое повреждение почек, пациентов с ишемическим инсультом, после выполнения коронароангиографии, после острой операции по расслоению аорты типа А, которые демонстрируют распространённость острой болезни почек и её исходы. Несмотря на то обстоятельство, что острая болезнь почек имеет высокую распространённость среди пациентов с различной патологией, ухудшает прогноз и увеличивает риск смерти или развития осложнений, её значение в современной медицине по-прежнему остаётся крайне недооценённым. В статье обозначены наиболее распространённые и исследуемые биохимические маркёры, потенциально позволяющие повысить долю выявления пациентов с риском неблагоприятных исходов при использовании в клинической практике.
Полный текст
Острая болезнь почек (ОБП) — относительно новое понятие в клинической медицине, внедрение которого обусловлено наличием заболеваний почек, которые не удовлетворяют строгим критериям острого повреждения почек (ОПП) или хронической болезни почек (ХБП), и необходимостью создать комплексный подход для объединения устоявшихся концепций ОПП и ХБП в одно целое.
Впервые определение ОБП было предложено фондом Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) в первых клинических рекомендациях по диагностике и лечению ОПП (Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury) в 2012 г., там же были отражены базовые принципы, позволяющие выделить ОБП как новое понятие [1]. По мнению авторов рекомендаций, ОБП может быть диагностирована «при наличии функциональных или структурных критериев, таких как наличие ОПП, изменение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мл/мин/1,73 м2 менее чем за 3 мес или снижение СКФ ≥35% либо повышение содержания креатинина в сыворотке крови (Скр) >50% менее чем за 3 мес» [1].
При этом эксперты указали типичные для ОБП маркёры повреждения: «эритроциты/эритроцитарные цилиндры, лейкоциты/лейкоцитарные цилиндры, клетки канальцевого эпителия/цилиндры, мелкие и крупные зернистые цилиндры, белок в моче», а также при применении визуализирующих методов диагностики «увеличение размеров почек, гидронефроз, кисты, конкременты» [1].
По сути ОБП включает ОПП и состояния, характеризующиеся наличием маркёров поражения почек, при которых скорость снижения СКФ не столь высока, как при ОПП [1]. Учитывая размытые границы между ОБП, ОПП и ХБП, возможности их сочетания, специалисты KDIGO предложили примерные подходы к дифференциальной диагностике указанных состояний [1].
В 2017 г. термин ОБП получил своё дальнейшее развитие в консенсусном документе международной рабочей группы Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) [2]. Согласно этому документу, было предложено обозначить ОБП как состояние, при котором «ОПП I стадии или выше присутствует ≥7 дней после события, которое его инициировало», а в случае если «ОБП сохраняется более 90 дней, её считают ХБП» [2].
Авторы рабочей группы также предложили концептуальную схему почечного континуума, объединяющего ОПП, ОБП и ХБП [2]. В предложенной системе ОПП определяют как «резкое снижение функции почек, происходящее в течение 7 дней или менее», тогда как ХБП — это «персистирование заболевания почек длительностью более 90 дней» [2]. ОБП, занимая промежуточное звено, представляет собой «острое или подострое повреждение и/или потерю функции почек в срок от 7 до 90 дней после инициации ОПП» [2]. Концепция также подразумевает, что ОПП и ОБП могут развиваться на фоне ранее существовавшей ХБП — «поверх неё» [2].
Помимо этого, экспертами ADQI впервые была предложена стратификация тяжести ОБП, которая, по их мнению, должна быть согласована со стадиями тяжести ОПП и включать следующие стадии [2]:
- 0 стадия, которая представляет собой частичное выздоровление от ОПП и делится на стадии:
- 0А (выздоровление после эпизода ОПП, но сохраняется риск долгосрочных событий);
- 0В (содержание Скр вернулось к исходному уровню, но есть признаки продолжающегося повреждения почек или потери почечного резерва);
- 0С (уровень Скр выше исходного, но не более чем в 1,5 раза);
- I стадия (уровень Скр в 1,5 раза превышает исходный);
- II стадия (уровень Скр в 2–2,9 раза превышает исходный);
- III стадия (уровень Скр в 3,0 раза превышает базальный или в абсолютных значениях 353,6 мкмоль/л либо сохраняется необходимость продолжать заместительную почечную терапию).
Схематично стратификация степени тяжести представлена на рис. 1.
Рис. 1. Стратификация тяжести острой болезни почек (ОБП); ОПП — острое повреждение почек; ЗПТ — заместительная почечная терапия
В 2020 г. в согласительном документе европейских и североамериканских нефрологов (Improving Global Outcomes Consensus Conference) были приведены оба альтернативных определения ОБП, при этом участники отметили, что согласование термина ОБП с терминами ОПП и ХБП — первоочередная задача, и это станет темой будущей консенсусной конференции KDIGO [3].
В 2022 г. группа российских авторов с целью уточнения места ОБП в почечном континууме предложила разделить её на две группы [4]:
- с сохранённой функцией и наличием биомаркёров повреждения почек или изменением их структуры;
- со снижением функции.
При этом каждый из вариантов может иметь транзиторный (до 7 дней) или персистирующий (7–90 дней) характер. Основываясь на предлагаемых изменениях, исследователи предложили модифицикацию концепции, которая уточняет место ОБП и ОПП в почечном континууме, основываясь на общепринятых критериях, что предполагает возможность быстрого внедрения в рутинную клиническую практику [4].
В проекте Российских рекомендаций по ОПП (2020), разработанных Научным обществом нефрологов России, ассоциациями нефрологов и анестезиологов-реаниматологов России, Национальным обществом специалистов в области гемафереза и экстракорпоральной гемокоррекции представлен подход, сопоставимый с консенсусным документом международной группы ADQI. При этом подходе ОБП рассматривают как «патологическое состояние, не разрешившееся в сроки до 7 сут ОПП, продолжающееся в период от 7 до 90 сут и характеризующееся персистенцией признаков повреждения почек или их дисфункции различной степени выраженности» [5]. Стратификация тяжести ОБП, представленная в Российских клинических рекомендациях, соответствует классификационной системе группы ADQI (2017) [2, 5].
В 2023 г. в консенсусном документе KDIGO продолжено обсуждение концепции ОБП [6]. По итоговому мнению участников конференции «ОБП включает и ОПП и, таким образом, охватывает всех пациентов, у которых есть функциональные и/или структурные нарушения с последствиями для здоровья длительностью ≤3 мес». Эксперты указали критерии ОБП, сопоставимые с теми, что приведены в клинических рекомендациях KDIGO по диагностике и лечению ОПП (2012): «ОПП или СКФ <60 мл/мин/1,73 м2, или снижение СКФ на ≥35%, или повышение Скр на >50%, и/или маркёры повреждения почек (наиболее частыми являются альбуминурия, гематурия и пиурия) ≤3 мес».
К сожалению, вновь остался без внимания вопрос продолжительности и критериев выздоровления после ОПП, чётко не очерчен момент перехода ОПП в ОБП. В то же время была согласована система классификации, которая выделяет ОБП без ОПП и ОБП с ОПП, при этом каждый из указанных вариантов может развиваться на фоне ХБП или без неё. Эксперты высказали мнение, что ОБП с ОПП можно стратифицировать по тяжести на основании стадирования ОПП, а ОБП без ОПП или ОБП после ОПП — на основе категорий СКФ и альбуминурии по аналогии с ХБП.
Участники конференции обсуждали и вопрос перехода ОБП в ХБП. Предложено пациентов, удовлетворявших критериям ОПП/ОБП, у которых функция почек относительно исходного уровня остаётся сниженной, но через 3 мес от момента воздействия не соответствует ХБП, классифицировать как «имеющих в анамнезе ОПП/ОБП» [6].
В настоящее время ОБП, как выяснилось, имеет высокую распространённость. Несмотря на то обстоятельство, что данное состояние ухудшает прогноз и увеличивает риск смерти или развития осложнений существующей ранее ХБП, её значение по-прежнему остаётся недооценённым [7, 8]. Дифференциальная диагностика ОПП и ОБП вызывает определённые трудности ввиду низкой точности оценки диуреза при ОПП и оценки уровня базального Скр, что, в свою очередь, создаёт большой разброс данных в диагностике ОПП и ОБП [7, 9]. Многочисленные и обширные исследования биомаркёров в современных рекомендациях пока не находят широкого применения в прогнозировании и ранней диагностике ОПП [1, 8, 10].
Ввиду того, что при госпитализации пациента неизвестно, на протяжении какого предшествующего времени повышался уровень Скр, часто невозможно определить наверняка, что имеет место — ОПП или ОБП [3]. Исследования, касающиеся ОБП и ОПП, проводимые преимущественно среди пациентов с кардиоваскулярной патологией, были вынужденно ретроспективными. При этом представляемые результаты в основном ограничивались смертностью и случаями ХБП de novo c длительностью наблюдения от 90 дней до 10 лет. Тем не менее, все эти исследования подтверждают, что ОБП повышает вероятность развития ХБП, а также увеличивает риск смерти [11].
ОБП и ОПП могут развиваться вне условий стационара, при этом чаще возникают случаи внебольничного ОПП, но часть эпизодов — ОБП без ОПП [12–14]. За последние десятилетия появилось множество публикаций, касающихся ХБП и ОПП, в то время как ОБП остаётся малоизученной [7, 8].
Обособление ОБП в отдельный этап континуума обусловлено необходимостью выделения данного периода для профилактики трансформации ОПП в ХБП. Согласно современному почечному континууму, «патогенез развития ХБП после ОПП многофакторный; обсуждается роль гемодинамических факторов, протеинурии, оксидативного стресса, метаболических нарушений, воспаления, гипоксии и других факторов» [4]. Таким образом, сложилось достаточно полное представление о связи между ОПП, ОБП и ХБП [15–20].
Существующее в настоящее время понимание почечного континуума гласит, что ОБП может быть как причиной развития ХБП, так и её следствием под действием факторов риска, как с некоторым шансом на выздоровление, так и с летальным исходом [15]. В свою очередь, причиной ОБП может стать ОПП под действием факторов риска либо без их прямого воздействия [18].
ОПП — распространённый и зачастую разрушительный клинический синдром, связанный с высоким уровнем летальности в стационарах, приближающимся к 25% в целом и превышающим 50% у пациентов в тяжёлом состоянии, по данным многолетних исследований, проводимых европейскими инициативными группами [16, 21, 22]. Результаты этих работ указывают на то обстоятельство, что среди выживших после ОПП пациентов неблагоприятным исходом может стать тяжёлая острая почечная недостаточность, требующая диализа, или невосстановление либо неполное восстановление функции почек — терминальная хроническая почечная недостаточность или ХБП соответственно [21]. Пациенты с ОПП даже при полном выздоровлении подвержены риску долгосрочных осложнений и неблагоприятному исходу [18–20].
Имеющиеся данные демонстрируют множественные вариации развития почечного континуума. Так, в 2020 г. Международное общество нефрологов опубликовало исследование пациентов с септическим шоком [22]. У 45% обследованных было выявлено ОПП, 19,9% умерли в течение 7 дней, у 53,2% произошло раннее купирование ОПП в течение первых 7 дней, тогда как у 26,9% больных с ОПП развилась ОБП [22]. Среди пациентов с ранним реверсированием у 14,2% возник рецидив ОПП, и только около трети из них выздоровели [22]. Среди тех, у которых развилась ОБП, только у 9,3% функция почек восстановилась до выписки [22].
В 2021 г. было опубликовано схожее исследование A.H. Flannery и соавт., в котором изучали пациентов с тяжёлым сепсисом и/или септическим шоком, среди которых были отобраны те, кто имел повреждение функции почек [23]. Пациенты, пережившие ОПП, связанное с сепсисом, часто не могут вернуться к исходному функционированию почек к выписке: у 47% пациентов развилась ОБП 0C стадии и выше [23]. ОБП указанных стадий была достоверно и прогрессивно связана с первичным исходом по сравнению со стадией 0А [23]. Заболеваемость или прогрессирование ХБП встречались с большей частотой на более высоких стадиях ОБП [23].
В 2017 г. проведено исследование ОБП у пациентов, перенёсших тотальное эндопротезирование суставов. По результатам работы было установлено, что частота послеоперационной ОБП составила 6,8% [24]. Периоперационное применение блокаторов рецепторов ангиотензина II/ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, ванкомицина и увеличенный индекс массы тела повышали вероятность возникновения послеоперационной ОБП [24]. По другим данным, воздействие ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента/блокаторов рецепторов ангиотензина II после ОПП связано с более низким риском смертности от всех причин, рецидива ОПП и прогрессирования до ХБП [25].
В 2019 г. M. Tonon и S. Rosi исследовали частоту и исходы ОБП (с ОПП или без него) у пациентов с циррозом печени [26]. В частности, ОБП была диагностирована у 29% обследованных, не имевших ОПП, что приблизительно в 4 раза чаще, чем ОБП с/после ОПП. Только 52,5% пациентов с ОБП выздоровели, 35% умерли, а у остальных развилась ХБП [26].
Исследование, опубликованное в 2019 г. N. Kofman и соавт., было направлено на определение и оценку частоты ОБП после ОПП у 225 пациентов, перенёсших инфаркт миокарда с подъёмом сегмента ST [27]. Пациентов оценивали на предмет возникновения ОБП и отдалённых почечных исходов на основании уровня Скр, измеренного через 7 дней после выписки из больницы и в течение 90–180 дней после ОПП [27]. Смертность анализировали через 90 дней и в течение периода 1271±903 дня.
Развитие ОБП выявлено у 81 (36%) из 225 пациентов с инфарктом миокарда и ОПП, оно было связано с более высокой 90-дневной (35 против 11%, р <0,001) и отдалённой (35 против 17%, р <0,001) смертностью. Нормализация содержания Скр до уровня, равного или ниже такового в момент госпитализации, через 90 дней и более от ОПП произошла у 41% пациентов с ОБП, тогда как у остальных 59% было выявлено развитие/прогрессирование ХБП [27]. Следует отметить, что при отсутствии ОБП прогрессирование ХБП зарегистрировано только в 7% случаев [27].
В 2022 г. опубликованы результаты III Китайского национального регистра инсульта [28]. В качестве подгруппы в него были включены пациенты, которым госпитально оценивали уровень Скр и сывороточного цистатина C с повторной оценкой данных показателей через 3 и 12 мес наблюдения [28]. Первичным клиническим исходом была смерть от всех причин в течение 1 года, а вторичными — рецидив инсульта и постинсультная инвалидность [28].
ОБП была выявлена у 3,9; 6,7; 9,9 и 6,2% пациентов с использованием соответственно Скр, расчётной СКФ на основе Скр, расчётной СКФ на основе цистатина C, а также комбинированной оценки расчётной СКФ на основе Скр и цистатина C. ОБП, диагностируемая с помощью Скр или расчётной СКФ на основе Скр, была независимо связана с 1-летней смертностью от всех причин и постинсультной инвалидностью у китайских пациентов с ишемическим инсультом [28].
В 2022 г. проведён анализ пациентов, которым выполняли коронароангиографию [29]. У 16,7% из них была выявлена ОБП. Летальность среди пациентов с ОБП была выше, чем в группе без ОБП (24,8 против 15,4%, p <0,001) [29]. ОБП независимо ассоциировалась со значительно повышенным риском смертности от всех причин [скорректированное отношение рисков 1,57; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,39–1,78; p <0,001] [29]. Представленное исследование показало, что ОБП обычно развивается после ОПП [29].
В работе, выполненной в 2021 г. в Китае, у 1386 пациентов, подвергнутых коронароангиографии, оценивали ОПП через 7 дней, ОБП через 3 мес и ХБП через 12 мес [30]. ОПП встречалось у 23,9% пациентов с нормальной предоперационной функцией почек [30]. Даже при раннем восстановлении функционирования почек в течение 3 дней ОПП увеличивало риск развития ОБП (отношение шансов 3,21; 95% ДИ 1,98–5,20; p <0,001) и ХБП (отношение шансов 2,86; 95% ДИ 1,68–4,86; p <0,001). Персистирующее ОПП ещё больше увеличивало риск ОБП (отношение шансов 12,07; 95% ДИ 5,56–26,21; p <0,001) и ХБП (отношение шансов 10,54; 95% ДИ 4,01–27,76; p <0,001). Многофакторный анализ выявил 3-месячную послеоперационную сердечную недостаточность и высокое систолическое давление в правом желудочке как независимые факторы риска развития ХБП [30].
В октябре 2022 г. опубликован результат исследования больных после острой операции по поводу расслоения аорты типа А [31]. В общей сложности у 54% участников развилось ОПП, при этом у 35,9% из них произошёл переход в ОБП. У 10,6% пациентов без ОПП также развилась ОБП. В целом у 24,3% участников диагностирована ОБП [31]. ОБП II–III стадии ассоциировалась с персистирующим снижением функции почек в течение 1 года [31]. При ОБП зарегистрирован более высокий риск серьёзных неблагоприятных почечных событий (относительный риск 2,52; 95% ДИ 1,90–3,33) и повторной госпитализации по всем причинам (относительный риск 2,86; 95% ДИ 2,10–3,89) [31].
В последнее десятилетие идёт активный поиск биологических маркёров, которые бы позволили раньше и надёжнее, чем традиционные показатели оценки функций почек, предсказывать развитие ОПП и выявлять его. Среди наиболее исследуемых молекул: липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов, цистатин С, интерлейкин-18, молекула повреждения почек 1 и др. [32].
Успехи последних лет в области молекулярной биологии, новые методы, разработанные для изучения транскриптома, развитие метаболомики и протеомики, а также значительные достижения в расшифровке генома позволят более точно анализировать сложные биологические системы [32]. Предположительно это будет способствовать появлению новых исследований, направленных на изучение применения различных молекул биологических сред организма человека, с целью оценки этапов почечного континуума, в том числе ОБП и вероятности её трансформации в ХБП.
Таким образом, следует констатировать, что концепция ОБП признана как самостоятельная «сущность» [6] и привлекает всё большее внимание исследователей, особенно в контексте траектории развития почечной функции пациентов. Между тем, в настоящее время проведено довольно мало исследований, касающихся ОБП, а в Российской Федерации эти работы и вовсе единичны, что, вероятно, обусловлено отсутствием единого подхода к диагностике этого состояния.
Существует необходимость в дальнейших исследованиях, чтобы охарактеризовать клинические причины ОБП, выявить их потенциальные взаимосвязи с результатами исследований и понять, как практикующие врачи могут применять это на практике для эффективного лечения пациентов [6]. Улучшение осведомлённости среди практикующих врачей о потенциальных неблагоприятных почечных исходах ОБП имеет большое значение, поскольку состояние большинства этих пациентов не будет оценивать нефролог. Мониторинг историй болезней и амбулаторных больничных карт показывает, что ОБП не распознают у большинства из этих пациентов [19].
Результаты исследований инициативных групп свидетельствуют о том, что включение ОБП в клинические рекомендации и исследовательские программы по заболеванию почек повысит долю выявления пациентов с риском неблагоприятных исходов, которые не идентифицируются критериями ОПП и ХБП, существующими в настоящее время, позволит сформировать схемы лечения в зависимости от тяжести течения заболевания, направленные на конкретные стадии ОБП.
Чтобы улучшить результаты лечения, необходимо начать с чёткого обоснования определения ОБП и расширения применения представленной концепции с последующей разработкой программ исследования для оценки исходов и тестирования вмешательств. Это позволит получить доказательства для обоснования клинических рекомендаций.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. В.С.С. — анализ, методология, исследование, создание черновика; М.В.М. — концептуализация, редактирование рукописи, общее руководство; А.Ю.Д., С.Ф.К. и В.В.М. — анализ, исследование.
Источник финансирования. Статья не имела спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов по представленной статье.
Об авторах
Владимир Сергеевич Сахаров
Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова
Автор, ответственный за переписку.
Email: dr.v.s.sakharov@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-6993-5830
SPIN-код: 6844-7770
врач-кардиолог
Россия, г. УльяновскМаксим Витальевич Мензоров
Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова; Ульяновский государственный университет
Email: menzorov.m.v@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-6000-4850
SPIN-код: 1277-7843
Scopus Author ID: 6504049631
ResearcherId: D-8191-2014
д-р мед. наук, проф., каф. терапии и профессиональных болезней
Россия, г. Ульяновск; г. УльяновскАнна Юрьевна Денисова
Ульяновский государственный университет
Email: sve2118@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-0974-5407
SPIN-код: 6426-3182
асп., каф. терапии и профессиональных болезней
Россия, г. УльяновскСабина Фаиговна Керимова
Ульяновский государственный университет
Email: sabina-kerimova-98@mail.ru
ORCID iD: 0009-0008-0005-4574
SPIN-код: 7500-5807
ординатор, каф. терапии и профессиональных болезней
Россия, г. УльяновскВалентина Вячеславовна Матюшина
Ульяновский государственный университет
Email: kasalinskaa@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1293-4014
SPIN-код: 3327-2299
соискатель, каф. терапии и профессиональных болезней
Список литературы
- Kellum J.A., Lameire N., Aspelin P., et al. KDIGO clinical practice guidelines for acute kidney injury // Kidney International Supplements. 2012. Vol. 2, N. 1. P. 5–138. doi: 10.1038/kisup.2012.1
- Chawla L.S., Bellomo R., Bihorac A., et al.; Acute Disease Quality Initiative Workgroup 16. Acute kidney disease and renal recovery: Consensus report of the Acute Disease Quality Initiative (ADQI) 16 Workgroup // Nat Rev Nephrol. 2017. Vol. 13, N. 4. P. 241–257. doi: 10.1038/nrneph.2017.2
- Levey A.S., Eckardt K-U., Dorman N.M., et al. Nomenclature for kidney function and disease: Executive summary and glossary from a kidney disease. Improving global outcomes consensus conference // Nephrol Dial Transplant. 2020. Vol. 5, N. 7. P. 1077–1084. doi: 10.1093/ndt/gfaa153
- Шутов А.М., Ефремова Е.В., Мензоров М.В. Почечный континуум: проблемы классификации // Ульяновский медико-биологический журнал. 2023. № 1. С. 43–49. doi: 10.34014/2227-1848-2023-1-43-49
- Ассоциация нефрологов. Клинические рекомендации. Острое повреждение почек (ОПП). Режим доступа: https://rusnephrology.org/wp-content/uploads/2020/12/AKI_final.pdf Дата обращения: 05.04.2022.
- Lameire N.H., Levin A., Kellum J.A., et al. Harmonizing acute and chronic kidney disease definition and classification. Report of a KIDNEY Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Consensus Conference // Kidney Int. 2021. Vol. 100, N. 3. P. 516–526. doi: 10.1016/j.kint.2021.06.028
- Siew E.D., Matheny M.E. Choice of reference serum creatinine in defining acute kidney injury // Nephron. 2015. N. 131. P. 107–112. doi: 10.1159/000439144
- James M.T., Levey A.S., Tonelli M., et al. Incidence and prognosis of acute kidney diseases and disorders using an integrated approach to laboratory measurements in a universal health care system // JAMA Netw Open. 2019. Vol. 2, N. 4. P. e191795. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.1795
- Мензоров М.В., Шутов А.М., Макеева Е.Р., и др. Сложности диагностики острого повреждения почек у больных инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST // Терапевтический архив. 2014. Т. 4, № 86. С. 25–29. EDN: SVPGFT
- Мензоров М.В., Шутов А.М., Сахаров В.С., Кабанова В.Н. Острое повреждение почек при остром коронарном синдроме // Казанский медицинский журнал. 2022. Т. 103, № 5. С. 797–806. doi: 10.17816/KMJ2022-797
- Лемер Н., Левин А., Келлум Д., и др. Согласование определений и классификации острой и хронической болезни почек: отчёт о консенсусной конференции KDIGO (инициативы по улучшению глобальных исходов болезней почек) // Нефрология и диализ. 2023. Т. 25, № 1. С. 11–25. doi: 10.28996/2618-9801-2023-1-11-25
- Bedford M., Stevens P., Coulton S., et al. Development of risk models for the prediction of new or worsening acute kidney injury on or during hospital admission: A cohort and nested study // Health Serv Deliv Res. 2016. Vol. 4, N. 6. P. 1–188. doi: 10.3310/hsdr04060
- Hobbs H., Bassett P., Wheeler T., et al. Do acute elevations of serum creatinine in primary care engender an increased mortality risk? // BMC Nephrol. 2014. Vol. 15. P. 206. doi: 10.1186/1471-2369-15-206
- Sawhney S., Fluck N., Fraser S.D., et al. KDIGO-based acute kidney injury criteria operate differently in hospitals and the community findings from a large population cohort // Nephrol Dial Transplant. 2016. Vol. 31. P. 922–929. doi: 10.1093/ndt/gfw052
- Шутов А.М., Ефремова Е.В., Мензоров М.В., и др. Современная концепция — почечный континуум (острое повреждение почек, острая болезнь почек, хроническая болезнь почек) // Архивъ внутренней медицины. 2021. Vol. 11, N. 2. P. 94–97. doi: 10.20514/2226-6704-2021-11-2-94-97
- Hoste E.A., Schurgers M. Epidemiology of acute kidney injury: how big is the problem? // Crit Care Med. 2008. N. 36. P. 146–151. doi: 10.1097/CCM.0b013e318168c590
- Wald R., Quinn R.R., Luo J., et al. Chronic dialysis and death among survivors of acute kidney injury requiring dialysis // JAMA. 2009. Vol. 302. Р. 1179–1185. doi: 10.1001/jama.2009.1322
- Jones J., Holmen J., De Graauw J., et al. Association of complete recovery from acute kidney injury with incident CKD stage 3 and all-cause mortality // Am J Kidney Dis. 2012. Vol. 60 . P. 402–408. doi: 10.1053/j.ajkd.2012.03.014
- Bucaloiu I.D., Kirchner H.L., Norfolk E.R., et al. Increased risk of death and de novo chronic kidney disease following reversible acute kidney injury // Kidney Int. 2012. Vol. 81 . P. 477–485. doi: 10.1038/ki.2011.405
- Шутов А.М., Машина Т.В., Мардер Н.Я. Хроническая сердечная недостаточность у больных с хронической болезнью почек // Нефрология и диализ. 2005. T. 7, № 2. С. 140–144. EDN: HVFXWL
- Susantitaphong P., Cruz D.N., Cerda J., et al. World incidence of AKI: A meta-analysis // Clin J Am Soc Nephrol. 2013. Vol. 8. P. 1482–1493. doi: 10.2215/CJN.00710113
- Peerapornratana S., Priyanka P., Wang S., et al; ProCESS and ProGReSS-AKI Investigators. Sepsis-associated acute kidney disease // Kidney Int Rep. 2020. Vol. 5, N. 6. P. 839–850. doi: 10.1016/j.ekir.2020.03.005
- Flannery A.H., Li X., Delozier N.L., et al. Sepsis-associated acute kidney disease and long-term kidney outcomes // Kidney Med. 2021. Vol. 3, N. 4. P. 507–514.e1. doi: 10.1016/j.xkme.2021.02.007
- Jiang E.X., Gogineni H.C., Mayerson J.L., et al. Acute kidney disease after total hip and knee arthroplasty: Incidence and associated factors // J Arthroplasty. 2017. Vol. 32, N. 8. P. 2381–2385. doi: 10.1016/j.arth.2017.03.009
- Chen J.Y., Tsai I.J., Pan H.C., et al. The impact of angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin II receptor blockers on clinical outcomes of acute kidney disease patients: A systematic review and meta-analysis // Front Pharmacol. 2021. Vol. 12. P. 665250. doi: 10.3389/fphar.2021.665250
- Kellum J.A., Nadim M.K. Acute kidney disease and cirrhosis // J Hepatol. 2021. Vol. 74, N. 3. P. 500–501. doi: 10.1016/j.jhep.2020.11.006
- Kofman N., Margolis G., Gal-Oz A., et al. Long-term renal outcomes and mortality following renal injury among myocardial infarction patients treated by primary percutaneous intervention // Coron Artery Dis. 2019. Vol. 30, N. 2. P. 87–92. doi: 10.1097/MCA.0000000000000678
- Zhou Y., Wang D., Li H., et al. Association of acute kidney disease with the prognosis of ischemic stroke in the Third China National Stroke Registry // BMC Nephrol. 2022. Vol. 23, N. 1. P. 188. doi: 10.1186/s12882-022-02817-4
- Liu J., Li Q., Chen W., et al. Incidence and mortality of acute kidney disease following coronary angiography: A cohort study of 9223 patients // Int Urol Nephrol. 2022. Vol. 54, N. 9. Р. 2433–2440. doi: 10.1007/s11255-022-03110-x
- Jin Sun Cho, Jae-Kwang Shim, Sak Lee, et al. Chronic progression of cardiac surgery associated acute kidney injury: Intermediary role of acute kidney disease // J Thorac Cardiovasc Surg. 2021. Vol. 161, N. 2. P. 681–688.e3. doi: 10.1016/j.jtcvs.2019.10.101
- Chang C.H., Chen S.W., Chen J.J., et al. Incidence and transition of acute kidney injury, acute kidney disease to chronic kidney disease after acute type A aortic dissection surgery // J Clin Med. 2021. Vol. 10, N. 20. P. 4769. doi: 10.3390/jcm10204769
- Bachorzewska-Gajewska H., Malyszko J., Sitniewska E., et al. Neutrophil-gelatinase-associated lipocalin and renal function after percutaneous coronary interventions // Am J Nephrol. 2006. N. 26. P. 287–92. doi: 10.1159/000093961
Дополнительные файлы