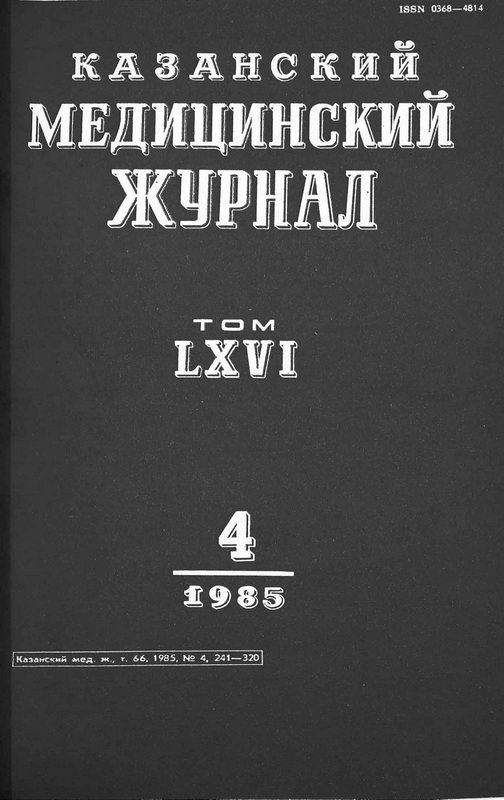Клинико-лабораторные проявления пищевой аллергии у детей с вирусным гепатитом А
- Авторы: Кулагина Л.С.
- Выпуск: Том 66, № 4 (1985)
- Страницы: 276-278
- Раздел: Теоретическая и клиническая медицина
- Статья получена: 24.02.2021
- Статья одобрена: 24.02.2021
- Статья опубликована: 15.08.1985
- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/61782
- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj61782
- ID: 61782
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В последние годы отмечается тенденция к росту частоты заболеваний, связанных с пищевой сенсибилизацией.
Ключевые слова
Полный текст
В последние годы отмечается тенденция к росту частоты заболеваний, связанных с пищевой сенсибилизацией. Среди многих аллергических заболеваний на долю пищевой аллергии детей приходится до 40% [3].
Задачей настоящей работы являлось изучение клинических и лабораторных проявлений пищевой аллергии у детей, больных вирусным гепатитом А.
Под наблюдением было 60 больных вирусным гепатитом и 20 здоровых детей (мальчиков — 36, девочек—44) в возрасте 3—12 лет. Вирусный гепатит А диагностировали по общепринятым клинико-лабораторным и эпидемиологическим тестам. Легкая форма заболевания была установлена у 54 (90%) детей, среднетяжелая — У 6 (10%). Острое течение констатировано у 57 (95%) детей, затяжное — у 3 (5%). Все больные получали базисную терапию. Диспансерное наблюдение за детьми, переболевшими вирусным гепатитом, проводили в течение 6 мес после выписки из стационара. В целях выявления пищевой аллергии были использованы клинические методы диагностики, данные аллергологического анамнеза, а также реакция альтерации лейкоцитов (РАЛ), реакция дегрануляции тучных клеток крыс (РДТК), определение уровня иммуноглобулина Е в сыворотке крови радиоиммунологическим методом; кожные скарификационные пробы с пищевыми аллергенами. Серологические реакции in vitro проводили в остром периоде болезни и в периоде реконвалесценции (через 6 мес после выписки из стационара), кожные пробы — только в периоде реконвалесценции. Кроме того, по показаниям в периоде реконвалесценции выполняли оральные провокационные пробы с пищевыми аллергенами параллельно с пробой Кока, тромбопеническим тестом и лейкопенической пробой Видаля—Вогана.
В качестве пищевых аллергенов (10 видов) были использованы яйцо (белок и желток), цитрусовые (мандарин и апельсин), мед, раствор глюкозы, молоко, яблоко, морковь, настой шиповника.
Всего invitro поставлено 1220 РАЛ и столько же РДТК; определен уровень общего иммуноглобулина Е у 80 больных в динамике (140 анализов). In vivo проведено80 кожных 'скарификационных проб, 10 оральных провокационных проб, 10 лейкопенических проб Видаля—Вогана, 10 тромбопенических тестов. Положительной ечитали РАЛ 30% и более, РДТК—более 15%; уровень общего иммуноглобулина Е не должен был превышать 54 ед./л. О пробе Кока судили по изменению АД более чем на 1,3 кПа (10 мм рт. ст.) и пульса более чем на 15 — 20 уд. в 1 мин, о лейкопенической пробе Видаля—Вогана — по снижению лейкоцитов на 1-109 в 1 л и более через 1 ч после приема аллергена; тромбопенический тест не должен был превышать 25%.
У здоровых детей все пробы были отрицательными, а уровень общего иммуноглобулина Е находился в пределах 54 ед./л.
На основании аллергологического обследования были выделены три группы по 20 человек,, идентичные по возрасту и полу, формам и тяжести болезни. В 1-ю группу вошли больные вирусным гепатитом А, у которых пищевая аллергия имела клинические проявления до заболевания, по поводу чего они находились на учете в аллергологическом кабинете. Во 2-ю, так называемую группу риска были включены больные с наследственной отягощенностью аллергическими заболеваниями. 3-ю группу составили дети с неотягощенным аллергологическим анамнезом, 4-ю — здоровые.
Анамнестически установлено, что у 4 детей 1-й группы пищевая аллергия проявилась в первый год жизни, у 16 — родители страдали аллергическими заболеваниями, у 7 — матери во время беременности и кормления грудью злоупотребляли продуктами -с выраженными аллергиэирующим1и 'свойствами. У всех детей этой группы отмечалась полисенсибилизация. Наиболее часто пищевая аллергия возникала после употребления цитрусовых. У всех детей 1-й группы наблюдались клинические обострения пищевой аллергии: в периоде продрома (у 5), в остром периоде (у 12), в периоде реконвалесценции (у 3). Наиболее частыми клиническими проявлениями пищевюй аллергии были кожные изменения: экзема (у 3), нейродерматит (у 5), крапивница (у 9), геморрагическая сыпь по типу капилляротоксикоза (у 1), сочетанные изменения кожи и слизистых (у 2).
У 13 детей 2-й группы анамнестически выявлена отягощенная аллергическими заболеваниями наследственность, у 11 — экссудативный диатез, проявившийся в первый год жизни, у 6 — фактор ранней сенсибилизации, связанный со злоупотреблением матерью во время беременности и кормления грудью продуктами с высокими аллергенными свойствами. Аллергическая сыпь наблюдалась в периоде продрома (у 1), в остром периоде (у 2), в периоде реконвалесценции (у 2).
У детей 3-й группы пищевая сенсибилизация не установлена. Только у одного ребенка этой группы была аллергическая сыпь в периоде продрома.
В остром периоде вирусного гепатита А положительная РАЛ была выявлена у детей всех трех групп. Из 200 реакций, поставленных у детей 1-й группы в остром периоде с десятью пищевыми аллергенами, положительными оказались 59, во 2-й группе — 39, в 3-й — 48. В периоде реконвалесценции эти показатели составили соответственно 57, 41 и 10.
У детей 1-й группы совпадение положительных РАЛ и РДТК в остром периоде вирусного гепатита А наблюдалось в 72,8% случаев, во 2-й группе — в 77,0%, в 3-й — в 68,8%; в периоде реконвалесценции — соответственно в 73,7%, 87,0% и 70,0%. Большинство детей, имевших двойной положительный результат на РАЛ и РДТК, реагировали на аллергены растительного происхождения.
В остром периоде вирусного гепатита А у детей 1-й группы из 43 положительных проб в 13 случаях выявлялась аллергия к белковым продуктам (7 — к яйцу, 6 — к коровьему молоку), 30 — к продуктам растительного происхождения (12— к цитрусовым, 6 — к меду, 6 — к глюкозе, 4 — к яблоку, 1 — к моркови, 1 — к шиповнику); во 2-й группе из 30 положительных проб 11 реакций были обусловлены белковыми продуктами (6 — яйцом, 5 — коровьим молоком), 19 — продуктами растительного происхождения (6—цитрусовыми, 6—медом, 5—глюкозой, 1—яблоком, 1—морковью); в 3-й—18 из 48 положительных проб были вызваны белковыми продуктами (10—яйцом, 8—молоком), 8—медом, 8—глюкозой, 10—цитрусовыми, 2 —-яблоком, 1 — морковью, 1 — шиповником.
В периоде реконвалесценции доминировали положительные реакции на продукты растительного происхождения. Так, из 42 положительных тестов, поставленных у детей 1-й группы, в 34 случаях выявлялась аллергия к продуктам растительного происхождения (12 — к глюкозе, 8 — к цитрусовым, 10 — к меду, 3—к яблоку, 1—к моркови), 8—к белковым продуктам (5—к яйцу, 3—к коровьему молоку); во 2-й группе 'из 36 положительных результатов с обоими иммунологическими, тестами 32 были вызваны продуктами растительного происхождения (14 — глюкозой, 10 — медом, 6 — цитрусовыми, 1 — яблоком,1 — морковью), 4 — белковыми продуктами (2 — яйцом, 2 — коровьим молоком); в 3-й — из 7 положительных тестов в 3 случаях выявлялась аллергия к продуктам растительного происхождения (1 — к меду, 1 — к глюкозе, 1 — к цитрусовым) и 4 — к белковым продуктам (3 — к яйцу, 1 — к молоку).,
С указанными пищевыми аллергенами мы проводили кожные скарификационные пробы. Совпадение их результатов в РАЛ у детей 1-й группы наблюдалось в 51,5% случаев, во 2-й — в 59% и в 3-й — в 70%.
При изучении содержания общего иммуноглобулина Е в динамике оказалось, что в остром периоде вирусного гепатита А его уровень у детей 1-й группы превышал норму в 6 раз (у 17), во 2-й — в 2,4 раза (у 13), в 3-й —в 2,5 раза (у 15); в периоде реконвалесценции — соответственно в 5 (у 15), в 4 (у 17) и в 1,5 раза (у 5).
В целях уточнения лабораторно выявленной пищевой сенсибилизации у 10 детей 2-й группы при выпадении одного серологического теста мы провели дополнительные аллергологические тесты: параллельно с провокационной оральной пробой с данным пищевым аллергеном определяли пробу Кока, тромбопенический тест и лейкопеническую пробу Видаля—Вогана. Клинических проявлений орально-провокационных проб не обнаружено; проба Кока и тромбопенический тест оказались положительными у 5 детей, лейкопеническая проба Видаля—Вогана—у 6.
Клинические обострения пищевой аллергии среди детей 1-й группы свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что вирусный гепатит А явлися провокационным фактором. Это подтверждается и результатами аллергологических тестов у 10 детей 2-й группы, у которых в периоде реконвалесценции была выявлена доклиническая пищевая сенсибилизация по 4—5 параметрам.
Положительные реакции на пищевые аллергены, наблюдавшиеся нами у больных всех 3 групп, не имели существенных различий в остром периоде вирусного гепатита А и могли быть объяснены нарушением барьерной функции печени.
Нами установлено, что у больных 1 и 2-й групп число положительных проб по двум серологическим тестам оставалось стабильным как в остром периоде болезни, так и в периоде реконвалесценции, но в последнем случае качественная характеристика отличалась значительным преобладанием числа положительных реакций на продукты растительного происхождения. В отличие от них у детей 3-й группы был отмечен резкий спад числа положительных проб в периоде реконвалесценции (в 4,5 раза), что связано с восстановлением барьерной функции печени и согласуется с литературными данными [1, 2, 4].
Таким образом, мы полагаем, что вирусный гепатит А предрасполагает к клиническому обострению пищевой аллергии и развитию пищевой сенсибилизации, особенно к углеводам, у детей с наследственной предрасположенностью к аллергическим заболеваниям.
Список литературы
- Ногаллер А. М. Пищевая аллергия. М., Медицина, 1983.—
- Пыцкий В. И., Адрианин И. В., Артамасова А. В. Аллергические заболевания. М., Медицина, 1984.—
- Соколова Т. С., Лусс Л. В., Рошаль Н. И. Пищевая аллергия у детей. М., Медицина, 1977.—
- Старосельский Д. В., Гранило в В. М. Врач, дело, 1977, 1
Дополнительные файлы