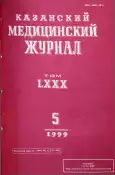Клинический и мембраностабилизирующий эффекты димефосфона и преднизолона и/или циклофосфана при лечении активного гломерулонефрита
- Авторы: Сагитова О.И.1, Максудова А.Н.1, Мясоутова Л.И.1
-
Учреждения:
- Казанский государственный медицинский университет
- Выпуск: Том 80, № 5 (1999)
- Страницы: 386-389
- Раздел: Статьи
- Статья получена: 04.05.2021
- Статья одобрена: 04.05.2021
- Статья опубликована: 15.09.1999
- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/70225
- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj70225
- ID: 70225
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Хронический гломерулонефрит (ГН) — заболевание с исходом в хроническую почечную недостаточность у большинства пациентов. Применяемая в лечении активного ГН иммуносупрессивная терапия (глюкокортикоиды и цитостатики) полностью не решает проблемы усугубления ГН. Кроме того, данным препаратам присущи побочные эффекты, ограничивающие их использование у больных ГН, в частности, при развитии почечной недостаточности или стабильной артериальной гипертензии.
Ключевые слова
Полный текст
Хронический гломерулонефрит (ГН) — заболевание с исходом в хроническую почечную недостаточность у большинства пациентов. Применяемая в лечении активного ГН иммуносупрессивная терапия (глюкокортикоиды и цитостатики) полностью не решает проблемы усугубления ГН. Кроме того, данным препаратам присущи побочные эффекты, ограничивающие их использование у больных ГН, в частности, при развитии почечной недостаточности или стабильной артериальной гипертензии. У некоторых больных хроническим ГН отсутствует эффект от лечения глюкокортикоидами (а нередко и цитостатиками), что свидетельствует о гормонорезистентности [12]. Поэтому актуален поиск патогенетических препаратов, которые позволят замедлить прогрессирование ГН и улучшить его прогноз.
Дестабилизация мембран (ДМ) играет роль в патогенезе активного ГН [10], в связи с этим многие авторы указывают на необходимость использования в лечении ГН антиоксидантов и/или мембраностабилизаторов [9, 13, 14]. Для глюкокортикоидов характерен определенный мембраностабилизирующий эффект [7], а для некоторых стероидных гормонов — и антиоксидантные свойства [6, 15]. Димефосфон (ДФ) обладает рядом свойств (иммунокорригирующее, противовоспалительное, мембраностабилизирующее), благодаря которым его применение при ГН является патогенетически обоснованным. Однако опыт использования ДФ при ГН ограничивается единичными сообщениями о получении положительного эффекта при лечении нефротического ГН, в том числе гормонорезистентного [3], гематурического ГН [5], нефропатии у детей [1].
Мы поставили цель сравнить мембраностабилизирующий и клинико-лабораторный эффекты ДФ с таковыми глюкокортикоидов и/или цитостатиков. Монотерапию ДФ получали 54 пациента (1-я группа), традиционную терапию преднизолоном (ПЗ) и/или циклофосфаном (ЦФ) — 66 (2-я группа). Больные ранее не лечились, за исключением 4 пациентов с гормонорезистентным ГН (все с нефротической формой), которые были переведены на монотерапию ДФ и вошли в 1-ю группу. Из статистической обработки 1-й группы были исключены 7 больных с резистентностью к ДФ, которым из-за тяжести состояния монотерапия была заменена на сочетанную — ДФ с ПЗ и/или ЦФ (смешанная форма ГН — у 3 больных, нефротическая — у 2, гипертоническая — у 2). Кроме того, мы поставили цель изучить эффективность сочетанного применения ДФ с ПЗ и/или ЦФ у больных активным ГН, учитывая наличие у ДФ свойств, потенциально способных дополнить патогенетический эффект и нивелировать неблагоприятные свойства циклофосфана [2]. Эти больные составили 3-ю группу (24 чел.). Характеристика больных представлена в таблице.
Сравниваемые группы были сопоставимы по возрасту (1-я группа — 37,7±6,3 года, 2-я - 35,6±7,5, 3-я - 35,7±5,3), полу (в 1-й группе — 29 мужчин, 25 женщин, во 2-й — соответственно 37 и 29, в 3-й — 14 и 10), числу больных с ХПН и относительно однородны по процентному соотношению клинико-морфологических форм. Исключением были некоторое преобладание гематурической и снижение частоты смешанной форм в 1-й группе по сравнению с таковыми во 2-й группе и больший процент тяжелых смешанных форм ГН в 3-й группе по сравнению с таковыми в 1 и 2-й группах. Однако исходный уровень клинико-лабораторных показателей в группах до лечения достоверно не различался, то есть группы были сопоставимыми. Исключение составила СОЭ, которая была выше во 2 и 3-й группах по сравнению с таковой в 1-й (Р<0,05).
Характеристика больных активным первичным ГН
Клинико-морфологические формы ГH | Обследованные группы | |||||
1-я | 2-я | 3-я | ||||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | |
Латентная | 18 | 33,3 | 19 | 28,8 | 5 | 20,8 |
Гематурическая | 11 | 20,6 | 9 | 13,6 | 4 | 16,6 |
Гипертоническая | 13 | 24,1 | 17 | 25,8 | 6 | 25,0 |
Нефротическая | 10 | 18,5 | 15 | 22,7 | 4 | 16,6 |
Смешанная | 2 | 3,7 | 6 | 9,1 | 5 | 20,8 |
С ХПН | 12 | 22,2 | 15 | 22,7 | 5 | 20,8 |
МПГН | 12 | 40,0 | 13 | 44,8 | 3 | 30,0 |
ГМИ | 3 | 10,0 | 1 | 3,4 | 0 | 0 |
МКГН | 4 | 13,3 | 5 | 17,2 | 3 | 30,0 |
ФСГС | 2 | 6,7 | 1 | 3,4 | 1 | 10,0 |
МГН | 6 | 20,0 | 6 | 20,7 | 2 | 20,0 |
ФПГН | 1 | 3,3 | 1 | 3,4 | 1 | 10,0 |
ОПГН | 2 | 6,6 | 2 | 6,8 | 0 | 0 |
В контрольную группу вошли 64 пациента с первичным неактивным ГН (муж./жен. — 34/30, средний возраст —37,8±6,8 года). Латентная форма была у 17 больных, гематурическая — у 11, гипертоническая — у 16, нефротическая — у 14, смешанная — у 6. Мезангио-пролиферативный ГН (МПГН) диагностирован у 10, ГН с минимальными изменениями (ГМИ) — у одного, мезангиокапиллярный ГН (МКГН) — у 4, фокально-сегментарный гломерулосклероз (ФСГС) — у 2, фибропластический ГН (ФПГН) — у одного, мембранозный ГН (МГН) — у 6, хроническая почечная недостаточность (ХПН) — у 9 (14,1%) больных.
Всем больным было проведено клинико-лабораторное и функциональное нефрологическое обследование, включавшее нефробиопсию у 69 больных активным ГН и у 24 — с неактивным ГН. ДМ оценивали по уровню ФЛ мочи биотестом “Лахема”, этаноламина крови (ЭА кр.) и мочи (ЭА м.) — по реакции с бензохиноином, показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ) крови, в частности малоновый диальдегид (МДА), — в реакции с тиобарбитуровой кислотой, гидроперекиси (ГП) — спектрофотометрически по УФ-поглощению с применением хлороформ-метанольной экстракции липидов из цельной крови. Активность воспаления оценивали по выраженности клинико-лабораторных проявлений ГН (отеки, АД, СОЭ, мочевой синдром) [4, 11, 8]. Показатели изучали в динамике (до лечения и в процессе лечения — через 2 недели, 1, 3, 6, 12 месяцев). Одновременно с патогенетической терапией больные получали при необходимости гипотензивные и мочегонные препараты, но исключался гепарин, обладающий мембраностабилизирующим и противовоспалительным эффектами.
Часть больных, прекращавших по различным причинам поддерживающую терапию, мы исключали из дальнейшего исследования, и в связи с этим число больных при каждом последующем исследовании уменьшалось. ДФ при моно- и сочетанной терапии в активной фазе ГН назначали в течение 8—12 недель в общепринятой дозе: либо внутрь по 50 мг/кг в виде 15% раствора по одной столовой (десертной) ложке 3 раза в день, либо внутривенно по 1 мл 1—2 раза в день. ДФ внутривенно предписывали больным преимущественно с нефротическим синдромом. В дальнейшем 16 больных перевели на поддерживающую терапию ДФ на срок до года по 2 схемам: а) прием половинной дозы ежедневно (9 больных); б) прием полной дозы через день (7). Дозы циклофосфана и/или преднизолона и продолжительность терапии были общепринятыми.
Мы проанализировали динамику клинико-лабораторных проявлений активности ГН (АД, протеинурии, эритроцитурии) в 3 группах. В процессе монотерапии ДФ (1-я группа) АД систолическое (АД с.) и диастолическое (АД д.) снижались. Наибольшее снижение АД с./ АД д. наблюдалось в первые 2 недели — на 19,1/13,3 мм Hg (оба на 13,1%; Р<0,01). Максимальное снижение АД за весь наблюдаемый период констатировано к 3-му месяцу: АД с. до 82,6% (Р<0,001) — здесь и далее процент указан по отношению к исходным показателям, АД д. — до 76,8% (Р<0,01) и далее практически без динамики. Суточная протеинурия при лечении ДФ снижалась в ранние сроки: через 2 недели- до 62,4% (Р>0,05), через один месяц — до 42,3% (Р<0,05), через 6 месяцев достигалось максимальное за наблюдаемый период снижение — до 20,1%. Эритроцитурия особенно интенсивно снижалась в первые 2 недели — до 57,4% (Р<0,05), через один месяц — до 32,7% (Р<0,01); далее темпы снижения замедлялись. Максимальное снижение эритроцитурии до 27,7% было отмечено к концу года.
При проведении иммуносупрессивной терапии (2-я группа) снижение АД было недостоверным (Р>0,05). Протеинурия снижалась заметнее, чем в 1-й группе, поскольку достоверная разница с исходным уровнем была выявлена лишь к 3-му месяцу. Максимальное снижение протеинурии достигалось через год (31,7%). Эритроцитурия снижалась медленнее, чем в 1-й группе, поскольку достоверное и одновременно максимальное снижение до 42,5% (Р<0,05) определялось лишь через год. Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии ДФ на эритроцитурию.
В 3-й группе при сочетанной терапии снижалось только АД с., причем через 3 месяца, то есть темпы снижения АД отставали по сравнению с таковой в 1 -й группе. Темпы снижения протеинурии были еще более замедленными, чем в первых 2 группах. Достоверное ее снижение до 42,4% (Р<0,05) было зафиксировано лишь через 6 месяцев с максимумом до 37,5% через один год. В 3-й группе эритроцитурия максимально снижалась к 6-му месяцу до 37,7% (Р<0,05), то есть медленнее, чем в 1-й группе, но быстрее, чем во 2-й.
СОЭ также отражала активность ГН, поэтому мы изучали ее динамику в процессе лечения. При монотерапии ДФ СОЭ снижалась через 3 месяца до 47,8% (Р<0,05), через 6 - до 46,6% (Р<0,05). При лечении ПЗ и/или ЦФ СОЭ снижалась к 3-му месяцу до 42,5% (Р<0,001) с максимумом к 6-му месяцу до 28,8% (Р<0,001), далее динамика отсутствовала. При сочетанной терапии достоверное снижение СОЭ до 57,8% (Р<0,01) было зарегистрировано также к 3-му месяцу с наилучшим эффектом к концу года (до 40,7%).
Итак, при всех методах лечения выявлено снижение активности ГН по динамике клинико-лабораторных показателей. Темпы наступления клинико-лабораторных эффектов были наибольшими в 1-й группе, поскольку достоверная разница с исходным уровнем наступала здесь раньше по всем анализируемым показателям. Исключением была лишь СОЭ, достоверное снижение которой зафиксировано во всех группах в одни сроки — через 3 месяца.
Для решения вопроса о преимуществе того или иного метода мы сопоставили уровни анализируемых показателей между собой в каждый из соответствующих сроков наблюдения (2 нед, 1 мес, 3 мес, 6 мес и 1 год). Достоверной разницы между показателями не было выявлено, за исключением наличия гипотензивного эффекта ДФ, отсутствия такового при иммуносупрессивной терапии и частичного — только в отношении АД с. при использовании сочетанной терапии. При проведении сочетанной терапии у всех больных была прослежена положительная динамика клинико-лабораторных показателей, то есть была исключена проблема резистентности к терапии.
Учитывая, что ДМ и ПОЛ играют роль в патогенезе ГН, мы исследовали их динамику в процессе лечения в 3 группах. Исходный уровень показателей ДМ в моче (ЭА и ФЛ) достоверно отличался от соответствующих показателей в неактивной фазе, что позволяет предположить их взаимосвязь с активностью ГН и согласуется с результатами проведенных нами ранее исследований [10]. Уровень ФЛ в моче в 1-й группе снижался в течение всего срока наблюдения: через 2 недели в 4 раза — до 25,7% (Р<0,05), через 3 месяца — до 5,7% (Р<0,01). При иммуносупрессивной терапии темпы снижения уровня ФЛ отставали — через 3 месяца до 9,2% (Р<0,01). При сочетанной терапии через 3 месяца уровень ФЛ составлял 7,1% (Р<0,05). Во всех группах через 3 месяца уровень ФЛ в моче оставался выше контрольного уровня (Р<0,05), что свидетельствовало о продолжавшейся деструкции мембран, обусловленной, по-видимому, субклинической активностью ГН.
При отсутствии разницы в исходном уровне ФЛ в моче между группами их уровень в процессе лечения различался в зависимости от метода терапии: через 2 недели в 1-й группе был достоверно ниже, чем в 3-й (соответственно 5,6±1,3 и 1,8±0,5 ед/м; Р<0,01), через один месяц в 1-й группе был ниже, чем во 2 и 3-й (соответственно 0,9±0,3, 3,0±0,5 и 3,9±0,9 ед/м; Р<0,01), через 3 месяца в 1-й группе ниже, чем во 2-й (0,4±0,08 и 0,7±0,09; Р<0,01). Таким образом, ДФ обладал большим мембраностабилизирующим эффектом, чем иммуносупрессивная терапия. Учитывая наличие в составе 3-й группы резистентных к ДФ больных, показатели которых могли негативно сказаться на эффективности терапии, мы не считаем возможным делать выводы о преимуществе монотерапии ДФ перед сочетанной.
Уровень ЭА в крови до лечения не отличался от контроля. В процессе лечения он не снижался во всех группах, что свидетельствует об отсутствии его взаимосвязи с активностью ГН. При исходно повышенном по сравнению с контрольной группой уровне ЭА в моче в процессе лечения всеми методами прослеживалась тенденция к его снижению, однако оно было недостоверно; не зарегистрировано достоверного различия и между группами.
Уровень МДА крови, характеризующий интенсивность ПОЛ, в процессе лечения по мере уменьшения активности ГН снижался: при монотерапии ДФ через один месяц до 62,5% (Р<0,001), через 3 месяца он несколько повысился, но оставался ниже исходного (Р<0,01). При проведении иммуносупрессивной терапии снижения уровня МДА не выявлено. Исходно повышенный уровень МДА во 2-й группе по сравнению с таковым в 1-й (Р<0,05) сохранялся на протяжении 2 недель и одного месяца; через 3 месяца различие становилось недостоверным. В 3-й группе уровень МДА снижался через один месяц до 62,7% (Р<0,05), через 3 месяца — до 64,7% (Р<0,05).
Следовательно, монотерапия ДФ и сочетанная терапия с ПЗ и/или ЦФ снижают интенсивность ПОЛ (по МДА). Достоверной разницы в уровне МДА в процессе лечения между 1 и 3-й группами не выявлено. Не исключено, что высокая эффективность монотерапии ДФ обусловлена небольшой интенсивностью ПОЛ в 1-й группе, не отличавшейся от контроля. Уровень ГП крови оставался без динамики во всех группах без корреляции со снижением активности ГН.
Выводы
- Применение димефосфона целесообразно при лечении активного ГН, поскольку он, обладая противовоспалительным эффектом, сопоставимым с глюкокортикоидами и/или циклофосфа- ном, снижает активность ГН.
- При лечении димефосфоном наибольший клинический и мембраностабилизирующий эффект достигается в первые 2—4 недели, что можно использовать для выявления чувствительности или резистентности к этому препарату и решения вопроса о целесообразности дальнейшего продолжения терапии.
- Сочетание димефосфона с преднизолоном и/или циклофосфаном имеет преимущества перед монотерапией димефосфоном и иммуносупрессивной терапией, поскольку снимает проблему резистентности.
Об авторах
О. И. Сагитова
Казанский государственный медицинский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: info@eco-vector.com
Кафедра внутренних болезней
Россия, КазаньА. Н. Максудова
Казанский государственный медицинский университет
Email: info@eco-vector.com
Кафедра внутренних болезней
Россия, КазаньЛ. И. Мясоутова
Казанский государственный медицинский университет
Email: info@eco-vector.com
Кафедра внутренних болезней
Россия, КазаньСписок литературы
- Зернов И.Н. Влияние девамизола и димефосфона на состояние Т-системы иммунитета и клиническое состояние нефропатии у детей: Автореф, дисс. ...канд. мед. наук. — М., 1985.
- Зиганшина Л.Е. Флоготропные свойства фосфонатов: Автореф. дисс. ... докт. мед. наук. — Казань, 1994.
- Игнатова М.С., Москалева Е.С., Копылева С.Д., Катышева О.В. // Тер. арх. — 1991. — № 6. — С. 122-125.
- Мухин Н.А., Козловская Л.В. // Клин. мед. — 1997.-№9.-С. 4-9.
- Пирих Л.А., Дударь И.О., Колесник M.О. // Врач. дело. - 1992. - № 3. - С. 3-6.
- Прошина М.П., Матюшин А.И.//Фарм. и токсикол. — 1982. — № 1. — С. 24—26.
- Рахов Д.А. Сборник трудов IV ежегодного нефрологического семинара 25—28 июня 1996 г., Спб.
- Ратнер М.Я., Серов В.В., Стенина И.Н. и др. // Тер. арх. — 1996. — № 6. — С. 10—13.
- Рябов С.И., Куликова А.Н., Митрофанова О.В. // Тер. арх. — 1995. № 2. — С. 51—54.
- Сигитова О.Н., Максудова А.Н. Тезисы Республиканской научно-практической конференции КГМУ. — 29 ноября 1996 г. — Казань, 1996.
- Тареева И.Е. // Тeр. арх. — 1996. — №6. — С. 5-10.
- Чучалин А.Г, Шмушкович Б.И., Мавраев Д.Э.// Тер. арх. — 1984. № 3. — С. 142—150.
- Юданова Л.С., Яковлева Е.В., Захарова Н.Б., Чернева И.И. // Тер. арх. — 1992. — № 6. — С. 63—66.
- Яковлева Е.В. Роль нарушений структурнофункциональных свойств мембран и энергообмена эритроцитов в прогрессировании анемии у больных с почечной недостаточностью: Автореф. дисс. ...канд. мед. наук. — Саратов, 1992.
- 75. Bell A.L., Hurst N. Р., Nuki G. // Abstr. of Fular Rheuma Symp. — Stocholm, 1983.
Дополнительные файлы